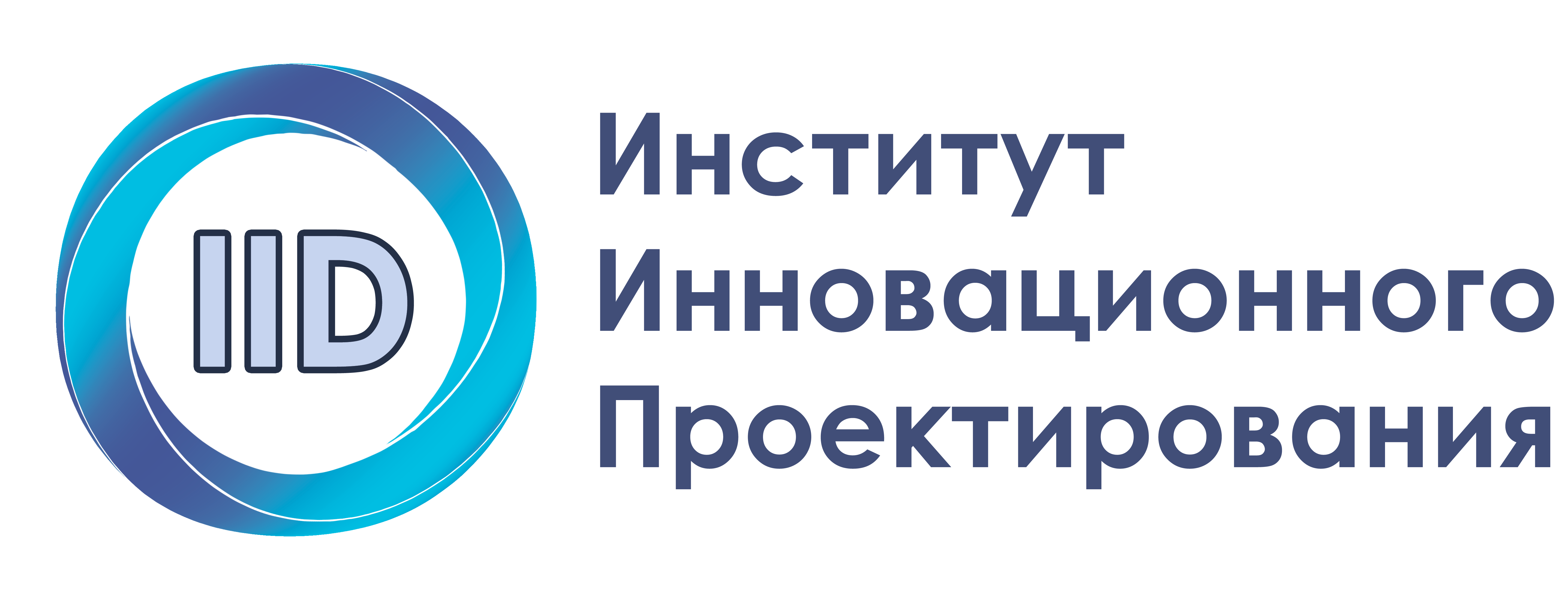Аннотация
В последней книге Космической Трилогии Клайва Льюиса д‑р Рэнсом сталкивается с противостоянием науки и этики.
Клайв Стейплз Льюис
Мерзейшая мощь
Посвящается Дж.Мак‑Нилу
«Навис покров мерзейшей мощи,
Подобно тьме угрюмой ночи…»
Сэр Дэвид Линсдей. Строки о вавилонской башне из поэмы «Беседа»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я назвал это сказкой, чтобы читателя не ввели в заблуждение первые главы и он сразу знал, что за книгу он открыл. Если же вы спросите, почему эти главы так будничны, я отвечу, что следую традиции. Мы не всегда это замечаем, потому что хижины, замки, дровосеки и короли стали для нас такими же непривычными, как ведьмы и людоеды. Однако, для людей своего времени они были привычнее, чем Брэктон – для меня. Многие крестьяне знали злых мачех, тогда как мне еще не довелось повстречать ученых, знакомых с ними. Но главное для меня – та мысль, которую я попытался высказать еще в книге «Человек отменяется». Из всех профессий я выбрал для книги свою не потому, что сотрудники университетов легче поддаются проискам бесов, а потому, что лишь эту профессию я знаю достаточно хорошо, чтобы о ней писать.
Тем, кто хочет понять получше, что такое Нуминор, придется (увы!) подождать, пока выйдут рукописи моего друга, профессора Дж.Р.Р.Толкиена.
Повесть эта – последняя часть трилогии (первые две части – «Планета молчания» и «Переландра»); но ее можно читать отдельно.
Оксфорд, колледж св.Магдалины, канун Рождества.
1. ПРОДАЖА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
А в‑третьих, – сказала самой себе Джейн Стэддок, – вы сочетаетесь браком, чтобы помогать друг другу, поддерживать друг друга и утешать». Она вышла замуж полгода тому назад, и слова эти засели у нее в памяти.
Сквозь открытую дверь она видела свою кухоньку и слышала громкое, неприятное тиканье часов. Из кухни она только что вышла и знала, что там все прибрано. Посуду она вымыла, полотенце повесила сушиться, пол протерла. В комнатах тоже был порядок. В магазине она уже побывала и закупила все, необходимое на сегодня, а до одиннадцати оставалась еще целая минута. Если даже Марк придет к обеду, у нее только два дела на все семь часов: второй завтрак и чай. Сегодня там у них собрание. Когда она сядет пить чай, Марк непременно позвонит и скажет, что пообедает в университете. День лежал перед ней, пустой, как квартира. Сияло солнце, тикали часы.
«Помогать, утешать, поддерживать…» – печально подумала Джейн. На самом деле, выйдя замуж, она сменила дружбу, смех и массу интересных дел на одиночное заключение. Никогда еще она не видела Марка так редко, как в эти полгода. Даже когда он был дома, они почти не разговаривали – то ему хотелось спать, то он о чем‑то думал. Когда они были друзьями, а позже – влюбленными – ей казалось, что и за целую жизнь им всего не переговорить. Зачем он на ней женился? Любит ли он ее? Если любит, слово это значит далеко не одно и то же для мужчины и женщины. По‑видимому, бесконечные разговоры были для нее самой любовью, а для него – ее предисловием…
«Вот и еще одно утро я промаялась… – сказала она самой себе. – Работать надо!» Под работой она понимала диссертацию о Донне. Она не хотела бросать науку, и отчасти поэтому они решили не иметь детей, во всяком случае – пока. Оригинальным мыслителем Джейн не была и собиралась подчеркнуть в своем труде «победное оправдание плоти» у избранного ею автора. Она еще верила, что если обложиться выписками, заметками и книгами и сесть за стол, былое вдохновение вернется к ней. Но прежде – быть может, для того, чтобы оттянуть первый миг – она начала листать газету и вдруг увидела фотографию.
И вспомнила свой сон. Вспомн??ла и те бесконечные минуты, когда сидела на кровати и ждала рассвета, не зажигая лампы, чтобы Марк не проснулся. Он ровно дышал, и это обижало ее. Он вообще спал, как убитый. Только одно могло разбудить его, и то ненадолго.
Сон был дурной, а дурные сны тускнеют, когда их рассказываешь. Однако, этот сон придется пересказать, иначе многое дальнейшее будет непонятно. Сперва ей приснилось лицо. Лицо это было смуглое, носатое и очень страшное – главным образом потому, что на нем запечатлелся страх. Рот был приоткрыт, глаза расширены, как расширяются они на секунду, когда человек ошеломлен; но ей почему‑то стало ясно, что шок этот длится уже несколько часов. Потом она разглядела всего человека. Он скорчился в углу выбеленной каморки и, по‑видимому, ждал чего‑то ужасного. Наконец дверь отворилась, и вошел другой человек, благообразный, с седой бородой. Они стали разговаривать. Раньше Джейн понимала, что говорят люди в ее снах, либо просто не слышала слов. Сейчас она слышала, но почти ничего не понимала, потому что эти двое говорили по‑французски, и это придавало сну особую достоверность. Второй человек сказал первому что‑то хорошее, и тот оживился и воскликнул: «Смотрите‑ка… да… хорошо!» (это она поняла), но потом снова как‑то сжался. Второй, тем не менее, убеждал его настойчиво, хотя и тихо. Он был недурен собой, хотя и холодноват, но в пенсне его отражалась лампочка, и глаз она не разглядела. Кроме того, у него были слишком безупречные зубы. Джейн он не понравился. Особенно ей не нравилось, что он мучает первого. Она не понимала, что он предлагает, но как‑то догадалась, что первый приговорен к смерти, а предложения человека в пенсне пугают его больше, чем казнь. Тут сон утратил свой реализм и превратился в обычный кошмар. Второй поправил пенсне и, холодно улыбаясь, схватил первого за голову обеими руками. Он резко повернул ее (Джейн видела прошлым летом, что так снимают шлем с водолаза), открутил и унес. Потом все смешалось: появилась другая голова, со струящейся бородой, и вся в земле. За ней показалось и тело – какой‑то старик, похожий на друида. Его откуда‑то выкапывали. Сперва Джейн не испугалась, резонно предположив, что он мертвый; но он зашевелился. «Не надо! – крикнула она во сне. – Он живой! Вы его разбудите!» Но они ей не вняли. Старик сел и заговорил как будто бы по‑испански. Это испугало ее так сильно, что она проснулась.
Таков был ее сон – не лучше, но и не хуже многих дурных снов. Однако, увидев газетное фото, Джейн поспешно опустилась в кресло, чтобы не упасть. Комната поплыла перед ее глазами. Голова была та самая – первая, не старика, а узника. Джейн с трудом взяла газету и прочла: «Казнь Алькасана» – крупными буквами, а ниже, помельче: «Ученый‑женоубийца гильотинирован». Что‑то она об этом слышала. Алькасан, француз из алжирцев, известный физик, отравил свою жену. Значит, вот откуда сон: она видела вечером это ужасное лицо. Нет, не получается, газета утренняя. Ну, значит видела раньше и забыла, ведь суд начался несколько недель назад. Займемся Донном. Что там у него? А, неясные строки в конце «Алхимии любви»:
Не жди ума от женщин, им пристали
Заботливость и скромность, что пленяли
Нас в матери…
«Не жди ума… А ждет ли его хоть один мужчина?.. Ах, не в этом дело, надо сосредоточиться, – сказала себе Джейн и тут же подумала – видела я раньше эту фотографию или нет?»
Через пять минут она убрала книги, надела шапочку и вышла. Она не знала, куда идет. Да что там, только бы подальше от этой комнаты, от этого дома.
Марк тем временем шагал в Брэктон‑колледж и думал о других вещах, не замечая, как красива улочка, спускавшаяся из пригорода к центру.
Я учился в Оксфорде, люблю Кембридж, но, мне кажется, Эджстоу красивее их. Во‑первых, он очень маленький. Никакой автомобильный, сосисочный или мармеладный король не осчастливил еще городок, где расположился университет, а сам университет – крохотный. Кроме Брэктона, там всего три колледжа – женский, за железной дорогой; Нортумберлэнд, рядом с Брэктоном, у реки; и так называемый Герцогский, напротив аббатства. В Брэктоне студентов нет. Основан он в 1390 году, чтобы дать пропитание и приют десяти ученым мужам, которые должны были молиться о душе Генри Брэктона и вникать в английские законы. Постепенно их стало сорок, и теперь только шестеро из них изучают право, а за душу Генри Брэктона не молится никто. Марк Стэ??док занимался социологией и в колледже работал лет пять. Сейчас его дела шли очень хорошо. Если бы он в этом сомневался (чего не было), он бы отбросил сомнения, когда у почты встретил Кэрри и тот, словно это само собой разумеется, пошел дальше вместе с ним, обсуждая предстоящее заседание. Кэрри был проректором.
– Да, – заметил Кэрри, – времени уйдет много. Наверное, до вечера задержимся. Реакционеры будут противиться изо всех сил. Но что они могут?
Никто не угадал бы по ответу, что Марк в полном упоении. Еще недавно он был чужим, плохо понимая действия «Кэрри и его шайки», как сам тогда называл их, и на заседаниях говорил редко, нервно и сбивчиво, нисколько не влияя на ход событий. Теперь он внутри, а шайка – это «мы», «прогрессисты» или «передовые люди колледжа». Случилось это внезапно, и он еще не привык.
– Думаете, протащим? – спросил Стэддок.
– Уверен, – отвечал Кэрри. – Ректор за нас, и Бэзби, и биохимики. Палем и Тэд колеблются, но они не подведут. Ящер что‑нибудь выкинет, но никуда ему не деться, голосовать будет за нас. Да, главное: Дик приехал!
Стэддок лихорадочно порылся в памяти и вспомнил, что один из самых тихих сотрудников носит имя Ричард.
– Тэлфорд? – удивился он. Понимая, всю абсурдность подобного предположения, он придал вопросу иронический оттенок.
– Ну, знаете! – расхохотался Кэрри. – Нет, Дик Дивэйн, теперь он лорд Фиверстоун.
– То‑то я думал! – Стэддок рассмеялся вместе с ним. – Очень рад. Знаете, я его никогда не видел.
– Как можно! – Воскликнул Кэрри. – Приходите сегодня ко мне, он будет.
– С удовольствием, – искренне ответил Стэддок и, помолчав, добавил: – Кстати, с ним теперь все в порядке?
– То есть как? – изумился Кэрри.
– Помните, были разговоры, что нельзя держать человека, если его никогда нет.
– Ах, Глоссоп и его банда! Ничего у них не выгорит. Неужели вы сами не видите, что это пустая болтовня?
– Вижу, конечно. Но, честно говоря, нелегко объяснить, почему человек занимает место в Брэктоне, когда он все время в Лондоне.
– Очень легко. Разве колледжу не нужна внушительная рука? Вполне возможно, что Дик войдет в следующий кабинет. Да он и сейчас гораздо полезнее, чем эти Глоссопы, просиди они тут хоть всю жизнь!
– Да, да, но на заседании…
– Вам надо знать о нем одну вещь, – перебил его Кэрри. – Это он вас протащил.
Марк промолчал. Ему не хотелось вспоминать, что когда‑то он был чужаком для всего колледжа.
– По правде говоря, – продолжал Кэрри, – работы Деннистоуна нам понравились больше. Это Дик сказал, что колледжу нужен такой человек, как вы. Пошел в Герцогский, все о вас разнюхал и гнул свое: работы работами, а человек важнее. Как видите, он был прав.
– Весьма польщен… – сказал Марк и не без иронии поклонился. В колледжах не принято говорить о том, как именно ты прошел по конкурсу; и Марк до сих пор не знал, что прогрессисты отменили и эту традицию. Не знал он и о том, что попал сюда не за свои таланты, а уж тем более – о том, что его чуть‑чуть не провалили. Чувство у него было такое, словно он услышал, что его отец едва не женился на совсем другой девушке.
– Да, – говорил тем временем Кэрри, – теперь действительно видно, что Деннистоун нам не подходит. Талантлив, ничего не скажешь, но совершенно сбился с пути. Хочет поделить поместья, то, се… Говорят, собирается в монахи.
– А все‑таки он человек неглупый, – возразил Марк.
– Я рад, что вы и Дик познакомитесь, – легко ушел от ответа Кэрри. – Сейчас мне надо идти, но потом я хотел бы с вами обсудить одно дельце.
Стэддок вопросительно взглянул на него. Кэрри понизил голос.
– Мы с Джеймсом и еще кое‑кто думаем, не сделать ли его ректором. Ну, вот мы и дома.
– Еще нет двенадцати. Не зайти ли нам в «Бристоль»? – предложил Марк.
Они зашли. Если хочешь быть своим человеком, приходится делать такие вещи. Марку это было сложнее, чем Кэрри, который еще не женился, да и получал больше. Но в «Бристоле» было очень приятно, и Марк взял виски для проректора и пиво для себя.
Когда я единственный раз гостил в Брэктоне, я уговорил моего хозяина впустить меня в лес и оставить там на час одного. Он попросил прощения за то, что запирает меня на ключ.
Мало кого пускают в Брэгдонс??ий лес. Войти туда можно лишь через ворота, установленные Иниго Джонсом, и высокая стена окружает поросшую лесом полосу земли в четверть мили шириной и милю длиной. Когда вы проходите туда с улицы через колледж, вам кажется, что вы проникаете в святая святых. Сперва вы пересекаете двор, названный именем Ньютона – квадрат, по всем сторонам которого выстроились красивые здания в немного вычурном, но довольно новом стиле. Потом входите в холодный двор, где темно даже днем, если закрыта дверь справа, ведущая в зал, и левая дверь, с окошком, ведущая в кладовую, из которой сочится запах свежего хлеба. Вынырнув из туннеля, вы оказываетесь в самом старом средневековом здании и попадаете во внутренний дворик, заросший травой; после старого двора, рядом с серым камнем, он кажется на удивление уютным и живым. Неподалеку находится часовня – и отсюда слышно, с каким хрипом идут большие старинные часы. Пройдя мимо урн и бюстов, поставленных в память былых членов колледжа, вы спускаетесь по выщербленным ступеням в ярко освещенный двор, носящий имя леди Элис, и вам вспоминается Бэньян или Уолтон. И слева, и справа от вас – здания XVIII века, – скромные, похожие на простые домики, со ставнями и черепичной крышей. Дворик этот с четвертой стороны не замкнут – там лишь несколько вязов, а за ними стена. Здесь вы впервые слышите журчанье воды и воркованье горлиц; вы уже так далеко, что других звуков нет… В стене – дверца, за ней – крытая галерея с узкими окнами по обе стороны. Выглянув из окна, вы видите, что под вами течет темная река. Вы переходите мост; цель ваша уже близка. За мостом – площадка для игры в мяч, за нею – высокая ограда; через решетку работы Джонса вы видите глубокие тени и залитую солнцем зелень.
Мне кажется, что лес многим обязан стене – ведь огороженное место ценится. Когда я ступал по мягкому дерну, мне чудилось, что меня ждут. Деревья растут достаточно густо, чтобы вы постоянно видели перед собой сплошную листву; но вам все время кажется, что именно сейчас вы – на полянке, ибо вы идете в неярком сиянии среди зеленых теней. Я был совершенно один, если не считать овец, чьи длинные глупые морды иногда глядели на меня; но одиночество это напоминало не о чаще, а о большой комнате в пустом доме. Помню, я думал: «В детстве мне было бы тут очень страшно, или очень хорошо». И потом: «Каждый становится ребенком, когда он один, совсем один. А, может, не каждый?..»
Четверть мили пройти недолго; но мне казалось, что я часами добирался до сердцевины леса. Но я знал, что она здесь, ибо тут было то, ради чего я пришел – родник, источник. К нему спускались ступеньки, и берег его когда‑то, очень давно, был вымощен. Теперь камень раскрошился, и я не ступил на него, а лег в траву и потрогал воду пальцем. Это был источник многих легенд. Археологи датировали кладку концом британско‑римского периода, незадолго до вторжения англо‑саксов. Никто не знал, как связано древнее слово «Брэгдон» с фамилией Брэктон, но я думаю, что семейство его поселилось здесь из‑за этого сходства. Если верить преданиям, лес намного старше колледжа. У нас немало свидетельств, что источник звался «Колодцем Мерлина», хотя название это встречается впервые в документах XVI века, когда ректор Шоуэл, истово сокрушавший алтари и жертвенники, окружил лес стеной, чтобы охранить его от тех, кто устраивал там какие‑то игрища. Не успел д‑р Шоуэл остыть в своей могиле (а прожил он лет сто), как офицеры Кромвеля попытались вообще разрушить это нечестивое место, но члены колледжа вступили с ними в схватку, во время которой на ступенях, у самого источника, был убит Ричард Кроу, прославленный и ученостью и святостью. Вряд ли кто‑либо посмел бы обвинить д‑ра Кроу в язычестве, но, по преданию, последние слова его были: «Мерлин, сын нечистого, служил своему королю, а вы, сыны блудниц – изменники и убийцы!» С тех пор каждый ректор в день своего избрания зачерпывал драгоценным кубком воду из источника и выпивал ее. Кубок этот хранился в колледже среди других реликвий.
Я думал обо всем этом, лежа у родника, восходившего к временам Мерлина, если, конечно, Мерлин вообще жил на свете; лежа там, где сэр Кенельм Дигби видел однажды летней ночью странное видение; где Коллинз слагал стихи и плакал Георг III, блистательный и любимый многими; Натаниэль Фокс писал свою прославленную поэму за три недели до того, как пал во Франции. Стояла такая тишина, и листва так уютно укрывала меня, что я уснул. Разбудил меня голос друга, звавший издалека.
Самым сложным был вопрос о продаже этого леса. Покупал его ГНИИЛИ – Государственный
Научно‑Исследовательский
Институт
Лабораторных Исследований – чтобы построить себе новое, более удобное здание. Институт этот был одним из первых плодов союза между государством и лабораторной наукой, который будит у стольких людей надежду на то, что мир наш станет лучше. Предполагалась скорая отмена обременительных запретов, которые до сих пор сдерживали свободу исследований. От экономических проблем институт уже освободился. Здание, которое предполагалось для него построить, изменило бы даже силуэт Нью‑Йорка; штаты предполагались огромные, ставки – неслыханные. Отцы города и колледжа долго и дипломатично отвлекали внимание института от Оксфорда, Кембриджа и Лондона. Шанс был невелик, и прогрессисты совсем было приуныли, но сейчас фортуна улыбнулась им. Они знали: если институт получит нужную ему землю, он переедет в Эджстоу, и все, наконец, оживет. Кэрри даже сомневался, выдержат ли Оксфорд и Кембридж такое соперничество.
Три года назад Марк Стэддок предполагал бы, что на сегодняшнем заседании состоится бой поборников прогресса и пользы с сентиментальными поклонниками красоты. Теперь он этого не думал. Он знал, что дела делаются не так.
Прогрессисты вели игру на самом высшем уровне. Почти никто из сотрудников, рассаживающихся в зале, не знал, что речь пойдет о продаже леса. Правда, в повестке дня значилось одним из пунктов: «Продажа земли, принадлежащей колледжу», но пункт этот стоял во всех повестках, и никто его не обсуждал. Кроме того, пункт первый гласил: «Вопросы, связанные с Брэгдонским лесом». Кэрри сразу приступил к вышеуказанным вопросам и зачитал несколько писем. Одно было из Общества Охраны Памятников, и, на свою беду, содержало сразу две претензии. Было бы умнее ограничиться тем, что стена, окружающая лес, давно нуждается в починке. Правда, и здесь строгий тон не понравился присутствующим. Когда же речь пошла о том, чтобы колледж пустил в лес археологов для обследования источника – многие просто обиделись. Я не хотел бы подозревать проректора в намеренных искажениях, но Кэрри, читая письмо, не скрыл его неточностей и недочетов. Другое письмо было от парапсихологов, тоже стремившихся в лес, где «происходили, судя по слухам, странные явления», а третье – от студии, которая хотела снять фильм уже про самих парапсихологов. Всем трем заседание отказало.
Потом поднялся лорд Фиверстоун. Он полностью согласился с мнением колледжа об этих наглых письмах, но напомнил, что стена действительно оставляет желать лучшего. Многим (но не Стэддоку) показалось, что кто‑то поставит, наконец, на место Кэрри и его шайку; это было приятно. Тут же вскочил казначей, Джеймс Бэзби, и горячо поддержал лорда Фиверстоуна. «Оставляет желать лучшего» – это мягко сказано, стена в безобразном состоянии. Чинить ее поздно, выход один: построить новую. Когда из него с немалым трудом выжали, сколько это может стоить, все ахнули. Лорд Фиверстоун холодно осведомился, предлагает ли уважаемый коллега пойти на такие издержки. Бэзби (бывший священник с большой черной бородой) ответил, что он ничего не предлагает, поскольку вопрос этот можно обсуждать лишь в тесной связи с теми финансовыми соображениями, которые он изложит впоследствии. Понемногу в дебаты стали втягиваться чужаки и реакционеры. Они не верили, что ничего сделать нельзя; и прогрессисты дали им поговорить минут десять. Потом снова показалось, что лорд Фиверстоун играет на руку реакционерам, ибо он спросил, неужели руководство колледжа видит только два выхода: строить новую ограду или допустить, чтобы лес стал открытым для всех. Он требовал ответа; и казначей, немного помедлив, изрек, что третий выход – обнести лес колючей проволокой. Поднялся страшный шум, из которого вырывались слова каноника Джоэла: «Лучше просто все вырубить!..» Вопрос отложили до следующего заседания.
Второй пункт был совершенно непонятен. Кэрри читал переписку колледжа с Общеуниверситетским Советом по поводу «предполагаемого включения в состав университета некоторых научных учреждений». Получалось, что университет уже все решил и без них. Что именно он решил, почти никто не понял, хотя часто повторялось сочетание ГНИИЛИ. Те же, кто понял, смутно ощущали, что переезд института имеет какое‑то отношение к Брэктону.
Уже к концу этого пункта многие начали подумывать о е??е. Однако, пункт третий вызвал оживление, ибо назывался он «ставки младших научных сотрудников». Я не буду говорить о том, сколько они получали; но этого им едва хватало, хотя жили они в самом колледже. Стэддок недавно был в их числе и очень им сочувствовал. Он понимал их скорбные взгляды – прибавка означала для них новый костюм, мясо на обед и возможность купить уже не одну пятую, а половину необходимых книг. Они жадно уставились на Бэзби, когда он встал, чтобы осветить положение. Как выяснилось, он знал, что никто не сомневается в его благих намерениях, но, по долгу службы, был вынужден сказать, что речь снова идет о непосильных расходах. Однако, и этот вопрос можно будет обсуждать лишь в свете соображений, которые он изложит ниже. У всех уже болела голова, всем хотелось есть и курить.
Ко времени перерыва младшие сотрудники твердо верили, что эта чертова стена мешает им получить прибавку. В таком же настроении они вернулись в зал, и Бэзби доложил о состоянии финансов. Было очень жарко, говорил он очень нудно, зубы его то и дело сверкали над черной бородой; денежные дела вообще нелегко понять, а те, кому это легко, не работают в университетах. Всем было ясно, что денег совершенно нет, а самые неопытные стали подумывать уже не о стене и прибавке, а о том, что колледж скоро закроют. Не греша против истины, Бэзби сказал, что положение чрезвычайно тяжелое. Те, кто постарше, слышали это раз двадцать за свою жизнь и не слишком впечатлились. В учреждениях, особенно научных, очень трудно сводить концы с концами.
В следующий перерыв Стэддок позвонил домой, что не придет обедать.
Часам к шести все вопросы свелись к одной точке: к продаже леса. Назывался он, конечно, не лесом, а «участком, окрашенным в розовый цвет на плане, который (план, а не участок, конечно) я сейчас пущу вокруг стола». Бэзби честно признался, что в участок входит часть леса; и впрямь, колледжу оставалась полоска футов в шестнадцать шириной. План был маленький, не совсем точный – так, общий набросок. В ответ на вопросы Бэзби сообщил, что источник, к несчастью – или к счастью – окажется на территории института. Конечно, сотрудникам колледжа будет гарантирован свободный доступ к нему, что же до охраны, то институт сумеет о ней позаботиться. Никаких советов Бэзби не давал, только назвал предложенную сумму. После этого заседание пошло бойко. Выгоды, как спелые плоды, падали к ногам. Решалась проблема ограды; младшим прибавляли жалованье; колледж вообще мог свести концы с концами, и даже более того. Как выяснилось, других подходящих мест в городе нет, и, в случае отказа, институт переедет в Кембридж.
Несколько твердолобых, для которых лес очень много значил, долго не могли толком понять, что происходит. Когда они поняли, положение у них было невыгодное. Получалось, что они спят и видят, как бы обнести Брэгдонский лес колючей проволокой. Наконец, поднялся полуслепой и почти плачущий Джоэл. Стоял оживленный шум. Многие обернулись – кто с любопытством, а кто и с восхищением – чтобы посмотреть на тонкое младенческое лицо и легкие волосы, белевшие в полумраке. Но слышали его только те, кто сидел рядом с ним. Лорд Фиверстоун вскочил, взмахнул рукой и, глядя прямо на старика, громко произнес:
– Если каноник Джоэл непременно хочет, чтобы мы не узнали его мнения, я думаю, ему лучше помолчать.
Джоэл хорошо помнил времена, когда старость уважали. С минуту он постоял – многим показалось, что он ответит – но каноник только беспомощно развел руками и медленно опустился в кресло.
Выйдя из дому, Джейн отправилась в центр города и купила шляпку. Она немного презирала женщин, покупающих шляпки, как мужчина покупает виски, чтобы подбодрить себя; и ей не пришло в голову, что она делает именно это. Одевалась она просто, цвета любила неяркие (каждый видел сразу, что перед ним не куколка, а серьезный, мыслящий человек) и думала поэтому, что не интересуется тряпками. Словом, она обиделась, когда м‑сс Димбл воскликнула, увидев ее у магазина:
– Доброе утро! Шляпку покупали? Поедем ко мне, примерим. Машина за углом.
Джейн училась у д‑ра Димбла на последнем курсе, а жена его, «Матушка Димбл», опекала и ее, и всех ее подруг. Жены профессоров не так уж часто любят студентов, но м‑сс Димбл их любила, и они вечно толклись в ее домике за рекой. К Джейн она особенно привязалась, как привязываются веселые бездетные женщины к девушкам, которых считают бестолковыми и прелестными. В нынешнем году Джейн забросила Димблов, совесть ее грызла, и приглашение она приняла.
Машина переехала мост – он вел на север – свернула налево, миновала домики, норманскую церковь и по дороге, окаймленной с одной стороны тополями, а с другой – стеною Брэгдонского леса, добралась до коттеджа Димблов.
– Как у вас красиво! – Воскликнула Джейн, входя в их прославленный садик.
– Любуйтесь, пока можно, – приветствовал д‑р Димбл.
– Почему это? – удивилась Джейн.
– Ты еще не сказала? – обратился Димбл к жене.
– Да я и сама толком не верю, – отвечала м‑сс Димбл. – Потом, м‑р Стэддок в Брэктоне… Да вы ведь уже слышали, Джейн?
– Совершенно ничего не слышала! – честно призналась гостья.
– Нас выгоняют, – объяснила хозяйка.
– Господи! – воскликнула Джейн. – А я и не знала, что это земля колледжа.
– Да, – промолвила м‑сс Димбл. – Почти никто не знает, как живут другие. А я‑то думала, вы уговариваете мужа, чтобы спасти нас…
– Марк никогда не говорит со мной о делах, – сказала Джейн.
– Хорошие мужья о делах не говорят, – поддержал ее Димбл. – Разве что о чужих. Вот Маргарет у меня знает все о колледже вашего мужа и ничего – о нашем. Как, завтракать будем?
– Подожди, – остановила его жена. – Сперва я посмотрю шляпку. – И быстро повела Джейн к себе наверх, вовлекая ее в старомодную женскую беседу. Джейн старалась казаться выше этого, но ей стало легче. Когда шляпку наконец отложили в сторону, м‑сс Димбл вдруг спросила:
– У вас все в порядке?
– У меня? – удивилась Джейн. – А что такое?
– Вы на себя не похожи.
– Нет, ничего… – пролепетала Джейн и подумала: «Она хочет узнать, не жду ли я ребенка».
– Можно, я вас поцелую? – спросила м‑сс Димбл.
Джейн хотела ответить: «Ну что вы!», но, к своему огорчению, поняла, что плачет. Матушка Димбл вдруг стала для нее просто «большой» – теплым, огромным, мягким существом, к которому бежишь в раннем детстве, когда разобьешь коленку или куклу. Джейн часто вспоминала, как изворачивалась она, когда мама или няня хотели ее обнять; но сейчас к ней вернулось то забытое чувство, которое она испытывала, когда сама кидалась к ним в страхе или горе. Нужда в утешении противоречила всем ее взглядам на жизнь. Однако она поведала, что ребенка не ждет, а просто горюет, что ей одиноко, и она видела дурной сон.
За столом д‑р Димбл говорил о преданиях артуровского цикла.
– Поразительно, – вещал он, – как там все сходится, даже в очень поздней версии, у Мэлори. Вы заметили, что персонажи делятся на две группы. С одной стороны – Гиневра, Ланселот и другие – все благородные, и ничего специфически британского в них нет. С другой, как бы по ту сторону Артура – люди низкие, с типично британскими чертами, и притом враждующие друг с другом, хотя они и в родстве. А магия… Помните это прекрасное место – о том, как Моргана «подожгла весь край женским ведовством»? Конечно, и в Мерлине много британского, хотя он не низок. Вам не кажется, что это – наш остров на исходе римского владычества?
– Что вы имеете в виду, д‑р Димбл? – не поняла Джейн.
– Ну, одна часть населения была римской… Эти люди носили тоги, говорили на окрашенной кельтским влиянием латыни – нам она показалась бы вроде испанского. А в глубине, подальше, за лесами, жили настоящие древнебританские царьки, язык у них был типа валлийского, жрецами были друиды…
– Кто же такой сам Артур? – спросила Джейн, смущаясь, что сердце ее екнуло при словах «вроде испанского».
– В том‑то и дело, – ответил д‑р Димбл. – Можно предположить, что он – старого британского рода, но крещен, обучен воинскому римскому искусству и пытается, не без успеха, стянуть страну воедино. Британские родичи этому противятся, а люди римской культуры смотрят на «местных» свысока. Вот почему сэра Кэя постоянно называют мужланом – он принадлежит к одному из местных родов… И за всем этим – подспудная тяга назад, к друидизму…
– А что же Мерлин?
– Мерлин?.. Да… Интересная фигура… Быть может, попытка и не удалась, потому что он так рано умер? Он – не злодей, но колдун. Он, конечно, друид – но знает все о Граале. Он «сын нечистого», но Лаямон дает нам понять, что это недостоверно. Помните: «нездешних много сил, средь них есть добрые и злые».
– Удивительно, – заметила Джейн. – Я никогда об этом не думала.
– А я вот думаю, – ответил д‑р Димбл. – Я размышляю о том, не был ли Мерлин последним представителем чего‑то забытого, чего‑то такого, что стало невозможным, когда люди, связанные с нездешними силами, разделились на черных и белых, на колдунов и священников.
– Ну, не пугай нас!.. – м‑сс Димбл заметила, что Джейн озабочена. – Во всяком случае, Мерлин давно умер и похоронен, как все мы знаем, тут рядом…
– Похоронен, но не умер, – поправил ее д‑р Димбл.
Джейн непроизвольно вскрикнула, а д‑р Димбл продолжал, как бы размышляя вслух:
– Интересно, что они найдут, если станут там копать?..
– Сперва глину, потом воду, – ответила м‑сс Димбл. – Оттого здесь и строить нельзя.
– Зачем же они сюда рвутся? – спросил ее муж. – Джайлс к романтике не склонен. Вряд ли он мечтает, что к нему перейдет мантия Мерлина.
– Ну что ты такое говоришь? – возмутилась м‑сс Димбл.
– Да, – согласился Димбл, – это маловероятно. Хотя некоторые из его людей были бы не прочь ее примерить. Другое дело, по росту ли она им. Не думаю, что им бы понравилось, если бы старый кудесник сам к ним явился.
– Джейн сейчас плохо станет! – воскликнула хозяйка, поспешно поднимаясь со стула.
– Что с вами? – удивился хозяин, глядя на бледное лицо гостьи. – Слишком жарко?
– Так, чепуха…
– Пойдемте в кабинет, – предложил д‑р Димбл. – Обопритесь на мою руку.
В кабинете, у открытого окна, глядя на лужайку, усыпанную ярко‑желтыми листьями, Джейн рассказала свой сон, чтобы объяснить, почему она так глупо себя ведет.
– Вот, – заключила она. – Можете теперь провести сеанс психоанализа…
Судя по всему, д‑р Димбл был сильно потрясен.
– Поразительно!.. – прошептал он. – Поразительно!.. Две головы… Одна принадлежит Алькасану… Неужели мы вышли на верный след?
– Сесил, не надо! – вмешалась м‑сс Димбл.
– Вы думаете, я больна? – спросила Джейн.
– Больны? – д‑р Димбл непонимающе глядел на нее. – А, в этом смысле!.. – И Джейн поняла, что он думает совсем о другом. О чем именно, она не могла и предположить.
Д‑р Димбл выглянул из окна.
– Идет мой самый тупой ученик, – проворчал он. – Что ж, послушаю доклад о Свифте, который начинается словами «Свифт родился…», и постараюсь вникнуть, а это нелегко. – Он встал и положил руку Джейн на плечо. – Вот что, – добавил он. – Ничего не буду вам советовать, но если вы захотите поговорить с кем‑нибудь про этот сон, спросите у меня или у Маргарет, к кому пойти.
– Вы не доверяете доктору Бразекру? – осведомилась Джейн.
– Сейчас я не могу вам объяснить, – сказал д‑р Димбл. – Все слишком сложно, но постарайтесь не волноваться. А если появится повод для тревоги – сразу сообщите нам. До свиданья.
Когда он вышел, явились какие‑то гости, и Джейн больше не смогла поговорить с хозяйкой. Через полчаса она ушла и направилась по тропинке через поле, где бродили ослики и гуси. Слева виднелись башни и шпили Эджстоу, справа – старая мельница.
2. ОБЕД У ПРОРЕКТОРА
– Ну, удружил!.. – воскликнул Кэрри. Он стоял у камина в одной из красивейших комнат своей великолепной квартиры.
– Кто, Два Нуля? – переспросил Джеймс Бэзби. Все они – и он, и лорд Фиверстоун, и Марк – пили вино перед обедом. Двумя Нулями прозвали Чарльза Плэйс, ректора Брэктонского колледжа. Лет пятнадцать назад прогрессисты считали его избрание одним из первых своих триумфов. Крича, что колледжу нужна свежая кровь, что пора его встряхнуть, что он закоснел в академической скуке, они протащили в ректоры пожилого чиновника, избегавшего академизма с тех пор, как он закончил Кембридж. Единственным его трудом был толстый отчет о состоянии клозетов в Англии. Однако надежд он не оправдал, ибо интересовался только филателией и своим больным желудком. Выступал он так редко, что сотрудники помоложе ни разу не слышали его голоса.
– Да, черт его дери! – ответил Кэрри. – Просит зайти, как только я смогу.
– Значит, – заметил Бэзби, – Джоэл и его ко??пания на него насели. Хотят все переиграть.
– Резолюцию отменить нельзя, – сказал Кэрри. – Тут что‑то еще, но вечер он мне испоганил.
– Именно, что вам, – ехидно усмехнулся Фиверстоун. – Не забудьте оставить то прекрасное бренди.
– Джоэл! О, Господи!.. – вздохнул Бэзби, запуская в бороду левую руку.
– Мне его стало жалко, – сказал Марк.
Отдадим ему справедливость: неожиданная и совершенно ненужная выходка Фиверстоуна неприятно поразила его; неприятна была и мысль о том, что Фиверстоун протащил его в колледж. Однако, эту фразу он произнес и потому, что хотел покрасоваться независимостью суждений. Скажи ему кто‑нибудь: «Фиверстоун будет вас больше ценить, если вы покажете зубы», он бы не обиделся; но никто этого не сказал.
– Джоэла пожалели? – удивился Кэрри. – Видели бы вы его в свое время!
– Я с вами согласен, – неожиданно поддержал Марка лорд Фиверстоун. – Но я, знаете ли, разделяю взгляды Клаузевица. В конечном счете, так гуманней. Я пришиб его одним ударом. Теперь он счастлив – вот они, молодые, которых он ругает столько лет! А что еще можно было сделать? Дать ему говорить? Он бы довел себя до инфаркта, да и огорчился бы, что мы с ним вежливы.
– Конечно, в этом есть смысл… – В свою очередь согласился Марк.
– Обед подан, – объявил слуга.
– Да, – изрек Фиверстоун, когда они уселись, – никто не любит, когда его враги ведут себя вежливо. Что бы делал бедный Кэрри, если бы наши мракобесы подались влево?
– Что ты, Дик, – ответил Кэрри. – Я сплю и вижу, когда же наступит конец этим распрям. Работать некогда!..
Фиверстоун расхохотался. Смех у него был поистине мужской и очень заразительный. Марк почувствовал, что лорд начинает ему нравиться.
– Работать? – переспросил Фиверстоун, не то, чтобы подмигивая, но все же поглядывая в сторону Марка.
– Да, у нас есть и собственная работа, – ответил Кэрри, понижая голос, чтобы показать этим, что говорит всерьез. Так понижают голос, когда речь заходит о вере или о болезнях.
– Не знал за вами, не знал, – Фиверстоун сделал удивленное лицо.
– Вот видите! – воскликнул Кэрри. – Или спокойно смотри, как все разваливается, или жертвуй своей научной работой. Немножко еще разгребу – и сяду за книгу. Все уже готово, продумано, только пиши.
Марк никогда не видел Кэрри обиженным, и ему становилось все веселее.
– Понятно!.. – иронично вздохнул Фиверстоун. – Чтобы колледж оставался на высоком уровне, лучшие его умы должны забросить науку.
– Вот именно!.. – начал Кэрри и замолчал, ибо Фиверстоун снова расхохотался.
Бэзби, прилежно занятый едой, тщательно отряхнул бороду и произнес:
– Да, в теории это смешно. Однако, по‑моему, Кэрри прав. Предположим, он уходит со своего поста, удаляется в келью. Мы бы имели блестящее исследование по экономике…
– Я, простите, историк, – заметил Кэрри.
– Ну, конечно, по истории, – ничуть не смутился Бэзби. – Итак: мы бы имели блестящее историческое исследование. Но через двадцать лет оно бы устарело. Работа же, которой он занят теперь, принесет колледжу пользу на очень долгое время. Перевести институт в Эджстоу! Как вам это? А? Я говорю не только о финансовой стороне, хотя по долгу службы с ней связан. Вы представьте себе, как все проснется, оживет, расцветет! Может ли самая лучшая книга по экономике…
– По истории, – подсказал Фиверстоун, но на сей раз Бэзби не услышал.
– …по экономике, – повторил он, – сравниться со всем этим? А?
Доброе вино уже делало свое доброе дело. Все мы знаем священников, которые рады забыть о своем сане после третьей рюмки. С Бэзби все обстояло наоборот: именно в этот момент он о своем сане вспоминал. Священник, уснувший летаргическим сном тридцать лет назад, обретал странную, призрачную жизнь.
– Вы знаете, – вещал он, – что правоверием я не отличаюсь. Но если понимать религию в широком, высоком смысле, я не побоюсь сказать, что Кэрри делает сейчас то, чего не сделал никакой Джоэл.
– Я бы не стал употреблять таких слов, Джеймс, – скромно заметил Кэрри, – но…
– Конечно, конечно! – перебил его Бэзби. – У каждого свой…
– А кто‑нибудь узнал, – спросил почтенный гость, – что именно будет тут делать инс??итут?
– Странно слышать это от вас, – Кэрри удивленно посмотрел на него. – Я думал, вы там свой человек.
– Наивный вы, что ли? – повернулся к нему Фиверстоун. – Одно дело – свой, другое дело – чем они занимаются.
– Ну, если вы имеете в виду частности… – начал Кэрри.
– Знаете ли, Фиверстоун, – перебил его Бэзби, – вы разводите таинственность на пустом месте. На мой взгляд, цели института совершенно ясны. Он впервые в истории занимается прикладной наукой всерьез, в интересах нации. Один размах говорит за него. Какие здания, какой аппарат!.. Вспомните, сколько он уже дал промышленности. Подумайте о том, как широко он использует таланты, и не только научные, в узком смысле слова. Пятнадцать начальников отделов, причем каждый получает по пятнадцать тысяч в год! Свои архитекторы, свои инженеры, свои полицейские… Поразительно!
– Будет куда пристроить сыночка, – заметил Фиверстоун.
– Что вы хотите сказать, лорд Фиверстоун? – возмутился Бэзби.
– Да, сморозил! – рассмеялся Фиверстоун. – Совсем забыл, что у вас есть дети.
– Я согласен с Джеймсом, – снова вклинился в разговор Кэрри. – Институт знаменует начало новой, поистине научной эпохи. До сих пор все делалось как‑нибудь. Теперь сама наука получит научную базу. Сорок ученых советов будут заседать там каждый день, протоколы будут немедленно реферировать, распечатывать – мне показали, удивительная машина! – и вывешивать на общей доске. Взглянешь на доску – и сразу видно, где что делается. Институт работает как бы на твоих глазах. Этой сводкой управляют человек двадцать специалистов, в особой комнате, вроде диспетчерской. На доске загораются разноцветные огоньки. Обошлось это, я думаю, не меньше, чем в миллион. Называется прагматометр.
– Видите! – изрек Бэзби. – У прагматометрии большое будущее.
– Да уж, не иначе, – ответил Фиверстоун. – Два Нуля сегодня говорил мне, что сортиры там – выше всех похвал.
– Конечно, – согласился Бэзби. – Не понимаю, что тут смешного?
– А вы что думаете, Стэддок? – спросил Фиверстоун.
– По‑моему, – ответил Марк, – очень важно, что там будут свои инженеры и своя полиция. Дело не в этих прагматометрах и не в роскошных унитазах. Важно другое: наука обратится, наконец, к общественным нуждам, опираясь на силу государства. Хотелось бы надеяться, что это даст больше, чем прежние ученые‑одиночки. Во всяком случае, это может дать больше.
– А, черт! – Кэрри взглянул на часы. – Пора к Нулям. Бренди в буфете. Сифон – на верхней полке. Постараюсь поскорей. Вы еще не уходите, Джеймс?
– Ухожу, – проворчал Бэзби. – Я ложусь рано. Весь день на ногах, знаете ли. Нет, надо быть болваном, чтобы тут работать! Сплошная нервотрепка. Дикая ответственность. А потом тебе говорят, что науку двигают эти книжные черви! Хотел бы я поглядеть, как бы Глоссоп повертелся!.. Да, Кэрри, займитесь своей экономикой, легче будет жить.
– Сказано вам, я… – начал было хозяин, но Бэзби, повернувшись к Фиверстоуну, уже сообщал ему какую‑то смешную новость.
Когда Кэрри и Бэзби вышли, лорд Фиверстоун несколько минут загадочно смотрел на Марка. Потом он хмыкнул. Потом он расхохотался. Откинувшись в кресле, он хохотал все громче, и Марк стал вторить ему, беспомощно и искренне, как ребенок. «Прагматометры!.. – восклицал Фиверстоун. – …Дворцовые сортиры!..» Марку стало удивительно легко. Все, чего он не замечал, и все, что замечал, но не показывал из уважения к прогрессистам, припомнилось ему. Он не мог понять, как раньше же не видел, что и проректор, и казначей столь смешны.
– Да, нелегко, – сказал Фиверстоун, приходя в себя. – Приходится пользоваться вот такими. Их спрашиваешь дело, а они…
– И все же, – заметил Марк, – они умнее других в Брэктоне.
– Ну, что вы! Глоссоп и Ящер Билль, и даже старый Джоэл куда умнее! Им не хватает реализма, они живут фантазиями, но чему они верят, тому и служат. Они знают, чего хотят. А наши бедные друзья… их легко впихнуть в нужный поезд, они даже могут вести его, но о пункте назначения они и понятия не имеют. Они голову положат, чтобы институт переехал в Эджстоу. Тем они ценны. Но что это за институт, что ему нужно, что вообще нужно… это уж увольте! Нет, прагматометрия!.. Пятнадцать начальников!
– Наверное, и я такой же…
– Ни в коей мере! Вы сразу поняли, в чем суть. Я знал, что вы поймете. Я читал все ваши статьи. Поэтому я и хочу с вами поговорить.
Марк молчал. Головокружительный прыжок на новый уровень избранности мешал ему говорить, как и прекрасное вино.
– Я хочу, – заявил Фиверстоун, – чтобы вы перешли в институт.
– То есть… оставил колледж?
– Это неважно. А вообще, что вам здесь делать? Когда старик уйдет, мы сделаем ректором Кэрри…
– Я слышал, что ректором будете вы.
– Я?! – удивился Фиверстоун, словно ему предложили стать директором школы для дефективных; и Марк обрадовался, что собственный его тон можно истолковать и как шутливый. Оба посмеялись.
– Здесь вы попусту тратите время, – сказал наконец Фиверстоун. – Это место для Кэрри. Скажешь ему, что он думает, и он так будет думать. Колледж для нас – только инкубатор. Мы будем брать отсюда стоящих людей.
– Для института?
– Да, прежде всего. Но это лишь начало.
– Я не совсем вас понимаю.
– Скоро поймете. Скажу в стиле Бэзби: человечество – на распутье. Сейчас самое главное – решить, на чьей ты стороне – на стороне ты порядка или на стороне обскурантизма. По всей вероятности, человеческий род уже способен управлять своей судьбой. Если дать науке волю, она создаст человека заново, сделает его воистину полезным животным. Если же ей это не удастся… тогда нам конец.
– Это очень интересно…
– Основных проблем – три. Первое – межпланетные перелеты…
– Что это такое?
– Пока неважно. Тут в данное время мы бессильны. Был один человек, Вэстон…
– Он где‑то погиб?
– Его убили.
– Убили?
– Несомненно. Я даже догадываюсь, кто именно.
– Господи! И ничего нельзя сделать?
– Доказательств нет. Убийца – почтенный филолог со слабым зрением, да еще хромой.
– За что же Вэстона убили?
– За то, что он с нами. Убийца – из вражеского лагеря.
– И все?
– Да, – кивнул Фиверстоун. – В том‑то и дело. Всякие Кэрри и Бэзби вечно твердят, что реакционеры борются против нас. Они и не подозревают, что это – настоящая борьба. Сопротивление врагов не кончилось судом над Галилеем. Оно только начинается. Теперь они знают, что вопрос о будущем человечества решится в ближайшие шестьдесят лет. Они будут сражаться до конца. Их ничто не остановит.
– Они не могут победить, – возразил Марк.
– Надеюсь, – ответил Фиверстоун. – Да, не могут. Вот почему беспредельно важно решить, с кем ты. Если попытаешься остаться в стороне, станешь пешкой, больше ничего.
– Ну, я‑то знаю, с кем я! – воскликнул Марк. – Спасти человечество… о чем тут думать!
– Лично я, – заметил Фиверстоун, – не стал бы подражать Бэзби. Реалистично ли заботиться о том, что станет с кем‑то через миллионы лет? Кроме того, не забывайте, что враг тоже толкует о спасении человечества. Практически же, суть в том, что ни вы, ни я, не хотим быть пешками и любим бороться… особенно, если победа обеспечена.
– Что же надо делать?
– Вот в том и вопрос. Межпланетные проблемы придется временно отложить. Вторая проблема связана с нашей планетой. У нас слишком много врагов. Я говорю не о насекомых и не о микробах. Жизни вообще слишком много. Мы еще не расчистили толком место. Во‑первых, мы не могли; во‑вторых, нам мешали гуманистические и эстетические предрассудки. Даже теперь вы услышите, что нельзя нарушать равновесие в природе. Наконец, третья проблема – сам человек.
– Это удивительно интересно…
– Человек должен взять на себя заботу о человеке. Значит это, сами понимаете, то, что одни люди должны взять на себя заботу обо всех остальных. Мы с вами хотим оказаться среди этих, главных.
– Что вы имеете в виду?
– Очень простые вещи. Прежде всего, стерилизуем негодные экземпляры, уничтожим отсталые расы (на что нам мертвый груз?), наладим селекцию. Затем введем истинное образование, и, в том числе, – внутриутробное. Истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек будет расти таким, каким надо, и ни он, ни его родители ничего не смогут сделать. Конечно, поначалу это коснется лишь психики, но потом перейдет и на биохимический уровень, мы будем прямо управлять сознанием…
– Это поразительно, Фиверстоун.
– И вполне реально. Новый тип человека. А создавать его будем мы с вами.
– Не примите за ложную скромность, но мне не совсем понятно, при чем тут я.
– Ничего, зато мне понятно. Именно такой человек нам нужен: отличный социолог, реалист, который не боится ответственности… и умеет писать, наконец.
– Вы хотите предложить, чтобы я все это рекламировал?
– Нет. Мы хотим, чтобы вы все это камуфлировали. Конечно, только на первое время. Когда дело пойдет, мягкосердечие англичан уже не будет нам помехой. Мы им сердце подправим. А пока, в начале, нам важно, как это преподнести. Вот, например, если пойдут слухи, что институт собирается ставить опыты на заключенных, старые девы разорутся и разохаются. Назовите это воспитанием неприспособленных, и все возликуют, что кончилась варварская эпоха. Странно, слова «опыт» никто не любит, «эксперимент» – уже получше, а «экспериментальный» – просто восторг. Ставить опыты на детях – да упаси Господь, а экспериментальная школа – пожалуйста!
– Вы хотите сказать, что мне, в основном, пришлось бы заняться… ну, публицистикой?
– Какая публицистика?! Читать вас будут прежде всего парламентские комиссии. Но это не главное ваше дело. Что же до главного… сейчас невозможно предугадать, во что оно выльется. Такому человеку, как вы, я не буду говорить о финансовой стороне. Начнете вы со скромной суммы – так, тысячи полторы.
– Об этом я не думал, – пробормотал Марк, вспыхивая от удовольствия.
– Конечно, – кивнул Фиверстоун. – Значит, завтра я везу вас к Уизеру. Он просил меня привезти вас на субботу‑воскресенье. Там вы встретите всех, кого нужно, и осмотритесь получше.
– Причем тут Уизер? – изумился Марк. – Я думал, что директор института – Джайлс. (Джайлс был известным писателем и популяризатором науки).
– Джайлс?! Ну, знаете! – рассмеялся Фиверстоун. – Он представляет институт нашей почтенной публике. А так – какой с него толк? Он не ушел дальше Дарвина.
– Да, да, – согласился Марк. – Я и сам удивился. Что ж, если вы так любезны, то я согласен. Когда вы выезжаете?
– В четверть одиннадцатого. Я за вами заеду, подвезу вас.
– Спасибо большое. Расскажите мне, пожалуйста, про Уизера.
– Джон Уизер… – начал Фиверстоун, и вдруг воскликнул: – Ах ты, черт! Кэрри идет. Придется слушать, что сказал Два Нуля, и как наш политик его отбрил. Не уходите. Я без вас не выдержу.
Когда Марк ушел, автобусов уже не было, и он направился к дому пешком под светом луны. Когда же он вошел в дом, случилось что‑то небывалое – Джейн кинулась к нему, дрожа и чуть не плача, и повторяя: «Я так испугалась!»
Больше всего его удивило, что она расслабилась, обмякла, утратила скованность и настороженность. Так бывало и раньше, но очень редко, а в последнее время вообще не бывало. Кроме того, вслед за этим наутро разражалась ссора. Словом, Марк удивился, но ни о чем не стал допытываться.
Вряд ли он понял бы, если б спросил; да Джейн и не сумела бы толком объяснить. Однако, причины были просты: от Димблов она пришла в пятом часу, оживилась по пути, проголодалась и поверила, что со страхами покончено. Дни становились короче, пришлось зажечь свет, спустить шторы, и тут уж страхи эти показались совсем смешными, как детский страх темноты. Она стала думать о детстве и, быть может, вспомнила его слишком хорошо. Во всяком случае, когда она пила чай, настроение ее изменилось. Ей стало трудно читать. Она забеспокоилась. Потом разволновалась. Потом, довольно долго она считала, что испугается, если не будет держать себя в руках. Потом она решила все‑таки поесть, но не смогла. Пришлось признать, что страх вернулся, и она позвонила Димблам. М‑сс Димбл почему‑то помолчала и сказала, что пойти надо к какой‑то мисс Айронвуд. Джейн сначала думала, что речь идет о мужчине, и ей стало неприятно. Жила эта врачиха не здесь, а повыше, в Сент‑Энн. Джейн спросила, надо ли записаться. «Нет, – ответила м‑сс Димбл. – Они будут вас…», и не докончила фразы. Втайне Джейн надеялась, что та все поймет и скажет: «Я сейчас приеду», но услышала торопливое: «До свиданья». Голос был странный, и Джейн показалось, что сейчас они с мужем говорили именно о ней… нет, не о ней, о чем‑то более важном, но с ней связанном. Что значит: «Они будут вас…»? «Они будут вас ждать»? Жуткое, как в д??тстве, видение каких‑то ожидающих ее людей пронеслось перед нею. Она увидела, как мисс Айронвуд, вся в черном, сидит, сложив руки на коленях, а кто‑то входит и говорит: «Она пришла».
– «Да ну их!..» – подумала Джейн, имея в виду Димблов, и тут же раскаялась, точнее – испугалась. Теперь, когда телефон не помог, страх накинулся на нее, словно в отместку за то, что она пыталась от него спастись, и она не могла потом вспомнить, вправду ли мелькал перед ней закутанный в мантию старик, или она просто дрожала, причитала, даже молилась неведомо кому, пытаясь предотвратить его появление.
Вот почему она кинулась к мужу. А он пожалел, что она кидается к нему, когда он так устал и запоздал, и, честно говоря, напился.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – поинтересовался он утром.
– Да, спасибо, – отозвалась она.
Марк лежал в постели и пил чай. Джейн причесывалась перед зеркалом. Смотреть на нее было приятно. Мы, люди, всегда проецируем свои чувства на других. Нам кажется, что ягненок кроток, потому что его приятно гладить. На Джейн было приятно смотреть, и Марку казалось, что и ей самой хорошо.
А Джейн казалось, что ей так плохо потому, что волосы ее не слушаются, и потому, что Марк пристает с вопросами. Конечно, она знала, что злится на себя за то, что вчера вечером сорвалась и стала именно тем, что ненавидела – «маленькой женщиной», которая ищет утешения в мужских объятиях. Но она думала, что злоба эта – где‑то глубоко, внутри, и не догадывалась, что лишь по этой причине пальцы, а не волосы, не слушаются ее.
– Если тебе плохо, – продолжал Марк, – я могу и не ехать…
Джейн промолчала.
– А если я поеду, – говорил он, – ты будешь одна ночи две‑три.
Джейн плотнее сжала губы и не проронила ни слова.
– Ты не пригласишь Миртл? – осведомился Марк.
– Нет, спасибо. Я привыкла быть одна.
– Знаю, – не совсем приветливо ответил Марк. – Черт‑те что у нас творится… Жить не дают. Поэтому я и хочу перейти на другую работу.
Джейн молчала.
– Вот что, старушка, – заключил Марк, опуская ноги с кровати. – Не хочется мне уезжать, когда ты в таком состоянии.
– В каком это? – спросила Джейн и обернулась к нему.
– Ну… нервничаешь… так, немножко… у кого не бывает…
– Если я видела вчера страшный сон, это еще не значит, что я ненормальная! – почти выкрикнула Джейн, хотя ничего подобного говорить не собиралась.
– Нет, так нельзя… – начал Марк.
– Как это «так»? – холодно спросила Джейн и не дала ему ответить. – Если ты решил, что я сошла с ума, пригласи доктора. Очень удобно, они меня заберут, пока тебя нет. Ладно, я в кухню пойду. А ты брейся, скоро явится твой лорд.
Бреясь, Марк сильно порезался (и ясно увидел, как предстанет перед Уизером с клочком ваты под губой); а Джейн по многим причинам решила приготовить особенно изысканный завтрак, принялась за дело со всем пылом рассерженной женщины и опрокинула все на новую плиту. Когда пришел лорд Фиверстоун, они еще сидели за столом, делая вид, что читают. Как на беду, в тот же самый момент пришла м‑сс Мэггс – та самая женщина, о которой Джейн говорила: «Я нашла подходящую прислугу на два раза в неделю». Мать Джейн двадцать лет назад называла бы ее «Мэггс», а сама звалась бы «мэм». Джейн и «приходящая» говорили друг другу «миссис Мэггс» и «миссис Стэддок». Они были ровесницы, и холостяк не заметил бы различия в их одежде; поэтому не было ничего удивительного в том, что Фиверстоун направился к прислуге, когда Марк сказал: «Моя жена». И ошибка эта не украсила тех минут, которые мужчины провели у Джейн в доме.
Как только они ушли, Джейн сказала, что ей пора в магазин. «Нет, сегодня я ее не вынесу, – думала она, – говорит без умолку». Без умолку говорил и лорд Фиверстоун, и громко, неестественно смеялся, и рот у него был поистине акулий, а уж манеры… Сразу видно, что круглый дурак. На что он Марку? Наверное, он и над Марком смеется. Марка так легко провести. И все это колледж… Что Марку делать с такими, как Кэрри, или тот мерзкий, бородатый? А что делать ей весь этот день и всю ночь, и дальше? Когда мужчина уезжает на два дня, это значит – спасибо, если на неделю. Пошлет телеграмму, даже не позвонит – и все в порядке.
А делать что‑то надо. Может быть, и правда позвать Миртл? Но Миртл относилась к своему близнецу, как только и может относиться сестра к такому талантливому брату. Она будет говорить о его здоровье, рубашках и носках, подразумевая, что Джейн неслыханно повезло. Нет, Миртл звать нельзя. Может, пойти к доктору? Но он будет задавать такие вопросы… А что‑то делать надо. Вдруг она поняла, что все равно поедет в Сент‑Энн, к мисс Айронвуд. И подумала: «Нет, какая же я дура!»
Если бы вы в тот день нашли удобное место над Эджстоу, то вы бы увидели, что к югу быстро движется черное пятнышко, а восточней, у реки, гораздо медленней ползет дымок паровоза.
Пятнышко было машиной, увозившей Марка в Беллбэри, где институт временно расположился при своей же станции переливания крови. Машина Марку понравилась. Сиденья были такие, что хотелось откусить кусочек. А как ловко, как мужественно (Марка сейчас мутило от женщин) сел Фиверстоун за руль, сжимая в зубах трубку! Даже по улочкам Эджстоу они ехали быстро, и Фиверстоун отпускал краткие, но едкие замечания о пешеходах и владельцах других машин. За колледжем св.Елизаветы, где когда‑то училась Джейн, он показал, на что способен. Мчались они так, что даже на полупустой дороге мимо них непрерывно мелькали другие машины, нелепые пешеходы, какие‑то люди с лошадьми и собаки, которым, по мнению Фиверстоуна, «опять повезло»! Курицу они все‑таки раздавили. Опьяненный воздухом и скоростью, Марк покрикивал: «Ух ты!», «Ну и ну!», «Сам виноват», – и краем глаза глядел на Фиверстоуна, думая о том, насколько он интереснее тех зануд. Крупный прямой нос, сжатые губы, скулы, манера носить костюм – все говорило о том, что перед тобой настоящий человек, который едет туда, где делают настоящее дело. Раза два Марк все же усомнился, достаточно ли хорошо лорд Фиверстоун водит машину, но тот кричал: «Что нам перекресток!», и Марк ревел в ответ: «Вот именно!» «Сами водите?» – спросил Фиверстоун. «Бывало», – ответил Марк.
Дымок, который вы увидели бы к востоку от Эджстоу, означал, что поезд везет Джейн Стэддок в деревню Сент‑Энн. Лондонцам казалось, что за Эджстоу пути нет; на самом же деле маленький поезд из двух‑трех вагонов ходил и дальше. В поезде этом все знали друг друга, и порой вместо третьего вагона прицепляли платформу, на которой ехали лошади или куры; а по перрону ходили охотники в шляпах и гетрах и привыкшие к поездам собаки. Выходил он в половине второго. В нем и ехала Джейн, глядя на красные и желтые листья Брэгдонского леса, а потом – на луга, а потом – на парк, мимо Дюк Итон, Вулема, Кьюр Харди. На каждой станции, где поезд со вздохом останавливался, немного подаваясь назад, звенели бидоны, стучали грубые башмаки, а потом наступала тишина и длилась долго, и осенний свет грел окно, и пахло листьями, словно железная дорога – такая же часть природы, как поле или лес. На каждой станции в купе входили мужчины, похожие на яблоки, и женщины в шляпах с искусственными вишнями, и школьники; но Джейн едва замечала их, ибо, хотя она считала себя крайним демократом, все классы, кроме ее собственного, были для нее реальны только в книге. А между станциями мимо проплывали островки, сулящие райское блаженство, если только ты успеешь сейчас, именно сейчас, спрыгнуть вниз и застать их врасплох: домик, а за ним – стог сена, а за стогом – поле; две пожилые лошадки, стоящие голова к хвосту; небольшой фруктовый сад, в котором виднелось вывешенное для просушки белье, и кролик, изумленно таращившийся на поезд. Его глазки были похожи на точечки, а ушки торчали вверх, как двойной восклицательный знак.
В четверть третьего она прибыла в Сент‑Энн, который был и конечной станцией железнодорожной ветки, и концом всего сущего. Когда она вышла со станции, наружный воздух подействовал на нее, как холодное тонизирующее средство.
Хотя поезд последнюю часть пути с шумом и шипением преодолевал подъем, ей все же предстояло еще подниматься вверх пешком, ибо Сент‑Энн была одной из тех деревень, расположенных на вершине холма, которые скорее встречаются в Ирландии, чем в Англии, и станция была расположена на некотором отдалении от деревни.
Дорожка, вьющаяся меж насыпей, привела ее в Сент‑Энн. Миновав церковь, она свернула налево, как ей объяснили в Саксон‑Кроссе. Слева от нее домов не было, только ряд буковых деревьев и неогороженная пашня, круто спускающаяся к основанию холма, а за ней, насколько хватало глаз, простиралась изрезанная оврагами пустошь, упирающаяся в голубизну н??ба. Джейн находилась в самой верхней точке этого района. Вскоре она подошла к высокой стене, которая, казалось, бесконечно тянулась справа от нее.
В стене была дверь, а рядом с ней висел старый железный колокольчик. Когда звон колокольчика затих, за ним последовало столь долгое молчание, что Джейн начала было подумывать, что дом необитаем. Затем, когда она уже начала колебаться, позвонить ли ей снова или повернуться и уйти, за стеной послышались чьи‑то шаркающие шаги.
3. БЕЛЛБЭРИ И СЕНТ‑ЭНН
Поднимаясь по широкой лестнице, Марк увидел в зеркале и себя, и своего спутника. Клочок ваты, закрывавший ранку, растрепало ветром, и теперь над губой гневно торчал белый ус, а под ним темнела засохшая кровь. Фиверстоун, как всегда, владел и собой, и ситуацией. Через несколько секунд Марк очутился в комнате с большими окнами и пылающим камином и понял, что его представляют Уизеру, исполняющему обязанности директора ГНИИЛИ.
Уизер был учтив и седовлас. Его водянисто‑голубые глаза смотрели вдаль, словно он не замечал собеседников, хотя манеры его, повторю, были безупречны. Он сказал, что исключительно рад видеть здесь м‑ра Стэддока и еще больше обязан теперь лорду Фиверстоуну. Кроме того, он надеялся, что полет не утомил их. Фиверстоун поправил его, и тогда он решил, что они прибыли поездом из Лондона. Затем он поинтересовался, нравится ли м‑ру Стэддоку его комната, и тому пришлось напомнить, что они только что приехали. «Хочет, чтобы я себя легче чувствовал», – подумал Марк. На самом деле ему становилось все труднее. «Предложил бы сигарету!..» – думал он, постепенно убеждаясь, что Уизер не знает о нем ничего. Обещания Фиверстоуна растворялись в тумане. Наконец, Марк собрал все свое мужество и заметил, что ему еще не совсем ясно, чем именно он может быть полезен институту.
– Уверяю вас, м‑р Стэддок, – сказал Уизер, глядя вдаль, – вам незачем… э‑э… совершенно незачем беспокоиться. Мы ни в коей мере не собираемся ограничить круг вашей деятельности, не говоря уже о вашем плодотворном сотрудничестве с коллегами, представляющими другие области знания. Мы всецело, да, всецело учтем ваши научные интересы. Вы увидите сами, м‑р… Стэддок, что, если мне позволено так выразиться, институт – это большая и счастливая семья.
– Поймите меня правильно, сэр, – смутился Марк. – Я имел в виду другое. Я просто хотел узнать, что именно я буду делать, если перейду к вам.
– Надеюсь, между нами не будет недоразумений, – продолжал вещать ИО. – Мы отнюдь не настаиваем, чтобы в данной фазе решался вопрос о вашем местопребывании. И я, и все мы полагаем, что вы будете проводить исследования там, где этого требует дело. Если вы предпочитаете, вы можете по‑прежнему жить в Лондоне или Кембридже.
– В Эджстоу, – подсказал лорд Фиверстоун.
– Вот именно, Эджстоу, – и Уизер повернулся к Фиверстоуну. – Я пытаюсь объяснить м‑ру… э… Стэддоку, что мы ни в малейшей мере не собираемся предписывать, или даже советовать, где ему жить. Надеюсь, вы со мной согласны. Где бы он ни поселился, мы предоставим ему, в случае надобности, и воздушный, и наземный транспорт. Я уверен, лорд Фиверстоун, что вы объяснили, как легко и безболезненно решаются у нас такие вопросы.
– Простите, сэр, – еще больше смутился Марк, – я об этом и не думал… То‑есть, я могу жить где угодно. Я просто…
Уизер прервал его, если это слово применимо к такому ласковому голосу:
– Уверяю вас, м‑р… э‑э… уверяю вас, сэр, вы и будете жить где вам угодно. Мы ни в малейшей степени…
Марк, почти в отчаянии, еще раз попытался вставить слово:
– Меня интересует характер работы.
– Дорогой мой друг, – сказал ИО, – как я уже говорил, никто и в малейшей мере не сомневается в вашей полнейшей пригодности. Я не предлагал бы вам войти в нашу семью, если бы не был совершенно уверен, что все до единого оценят ваши блестящие дарования. Вы среди друзей, м‑р… э‑э. Я первый отговаривал бы вас, если бы вы думали связать свою судьбу с каким бы то ни было учреждением, где бы вам грозили… э… нежелательные для вас личные контакты.
Больше Марк не спрашивал; и потому что, видимо, он должен был сам уже все знать, и потому что прямой, резкий вопрос выбросил бы его из этой теплой, почти одуряющей атмосферы доверительности.
– Спасибо, – сказал он, – я только хотел немного ясней представить себе…
– Я счастлив, – сказал Уизер, – что мы с вами заговорили об этом по‑дружески… э‑э‑э… неофициально. Могу вас заверить, что никто не намеревается загнать вас – хе‑хе – в прокрустово ложе. Мы здесь не склонны строго разграничивать области деятельности, и, я надеюсь, такие люди, как вы, всецело разделяют неприязнь к насильственному ограничению. Каждый наш сотрудник чувствует, что его работа – не частное дело, а определенная ступень в непрестанном самоопределении органического целого.
И Марк поддержал (прости его, Боже, ведь он был и молод, и робок, и тщеславен):
– Это очень важно. Мне очень нравится такая гибкость… – после чего уже не было никакой возможности остановить Уизера. Тот неспешно и ласково вел свою речь, а Марк думал: «О чем же мы говорим?» К концу беседы был небольшой просвет: Уизер предположил, что Марк сочтет удобным вступить в институтский клуб. Марк согласился и тут же страшно покраснел, ибо выяснилось, что вступать туда надо пожизненно, и взнос – 200 фунтов. Таких денег у него вообще не было. Конечно, если бы он получил здесь работу, он смог бы заплатить. Но получил ли он? Есть тут работа для него или нет?
– Как глупо, – сокрушенно произнес он. – Оставил дома свою чековую книжку.
Через несколько секунд он снова шел по лестнице рядом с Фиверстоуном.
– Ну как? – спросил он. Фиверстоун, видимо, не расслышал.
– Ну, как? – повторил Марк. – Когда я узнаю, берут меня или нет?
– Хэлло, Гай! – заорал вдруг Фиверстоун, кинулся куда‑то вниз и, схватив своего приятеля за руку, мгновенно исчез. Марк медленно спустился по лестнице и оказался в холле, среди каких‑то людей, которые, оживленно беседуя, шли по двое, по трое налево, к большим дверям.
Долго стоял он здесь, не зная, что делать, и стараясь держаться поестественней. Шум и запахи, доносившиеся из‑за дверей, указывали на то, что народ завтракает. Марк колебался, заходить ему или нет, но потом решил, что торчать здесь, как дураку, в любом случае хуже.
Он думал, что в столовой – столики, и он найдет место подальше, но стол был один, очень длинный, и места почти все заняты. Не найдя Фиверстоуна, Марк сел рядом с кем‑то, пробормотав: «Здесь можно сесть, где хочешь?», но сосед его не услышал, ибо деловито ел и разговаривал с другим своим соседом.
Завтрак был превосходный, но Марк с облегчением вздохнул, когда он кончился. Вместе со всеми он пересек холл и очутился в большой комнате, куда подали кофе. Здесь он увидел, наконец, Фиверстоуна. Его трудно было не увидеть, ибо он стоял в центре группы и громко что‑то рассказывал. Марк хотел его спросить, остаться ли ему тут на ночь и есть ли для него комната, но кружок был очень уж тесный, все свои, и он не решился. Подойдя к одному из столиков, он стал листать журнал, то и дело поглядывая в сторону Фиверстоуна, опасаясь, как бы тот опять не исчез. На пятый раз он увидел одного из своих коллег, Вильяма Хинджеста, которого (конечно, за глаза) называли Ящерка Билл или просто Ящер.
Как и предвидел Кэрри, Хинджест на заседании не был и вряд ли знал Фиверстоуна. Не без страха Марк понял, что его коллега попал сюда сам, без помощи всемогущего лорда. Занимался он физической химией и был в их колледже одним из двух ученых мирового класса. Надеюсь, читатель не думает, что в Брэктоне собрались крупные ученые. Конечно, передовые люди не приглашали нарочно тех, кто поглупей, но, как выразился Бэзби, «нельзя же иметь все сразу!..» У Ящера были старомодные усы, светло‑рыжие с проседью. Нос его походил на клюв.
– Вот не ожидал, – вежливо поздоровался Марк. Он всегда побаивался Хинджеста.
– Хм? – удивился Ящер. – Что? Ах, это вы, Стэддок? Не знал, что они и вас подцепили.
– Жаль, что вас не было вчера на заседании, – заметил Марк.
Это была ложь. Прогрессистам не нравилось, когда Хинджест ходил на заседания. Как ученый он принадлежал им, но, кроме того, он был аномалией, и это им очень не нравилось. Дружил он с Глоссопом. К своим поразительным открытиям он относился как‑то небрежно, а гордился своим родом, восходившим к мифической древности. Особенно оскорбил он коллег, когда в Эджстоу приезжал де Бройль. Знаменитый физик был все время с ним, но когда кто‑то потом восторженно обмолвился об «истинном пиршестве науки», Ящер подумал и сказал, что о науке они вроде бы ?? не говорили. «Хвастались предками», – прокомментировал это Кэрри, хотя и не при Хинджесте.
– Что? Заседание? – переспросил Ящер. – С какой это стати?
– Мы обсуждали проблему Брэгдонского леса.
– Ерунда какая!
– Наверное, вы бы согласились с нашим решением.
– Какая разница, что вы там решили!
– То есть как?
– А так. Институт все равно забрал бы лес. Они это могут.
– Как странно! Нам сказали, что если мы откажемся, они переедут в Кембридж.
Хинджест громко хмыкнул.
– Вранье. А странного я ничего не вижу. Наш колледж любит проболтать весь день впустую. И в том, что институт превратит самое сердце Англии в помесь американского отеля с газовым заводом, тоже нет ничего странного. Одно мне непонятно: зачем им этот участок?
– Мы это скоро увидим.
– Вы, может, и увидите. Я – нет.
– Почему? – растерянно спросил Марк.
– С меня хватит, – Хинджест понизил голос. – Сегодня же уеду. Не знаю, чем вы занимаетесь, но мой вам совет – езжайте назад и занимайтесь этим дальше.
– Да? – удивился Марк. – Почему вы так думаете?
– Такому старику, как я, уже все равно, – пояснил Хинджест, – а с вами они могут сыграть плохую шутку. Конечно, кому что нравится.
– Собственно, – заметил Марк, – я ничего еще не решил. Я даже не знаю, что буду делать, если останусь тут.
– Вы чем занимаетесь?
– Социологией.
– Хм, – буркнул Хинджест. – Могу вам показать вашего начальника. Некий Стил. Вон, у окна.
– Вы меня не познакомите?
– Значит, решили остаться?
– Ну, надо же мне хотя бы с ним побеседовать!
– Хорошо, – согласился Хинджест. – Дело ваше. – И крикнул: – Стил!
Стил обернулся. Он был высокий, суховатый, с длинным худым лицом, но с толстыми губами.
– Это Стэддок, – представил Марка Хинджест. – В ваш отдел. – И отвернулся.
– Он сказал – в мой отдел? – не сразу выговорил Стил.
– Сказать он сказал, – ответил Марк, пытаясь улыбнуться, – но сам я не знаю. Я социолог, конечно…
– Да, отдел мой, – прервал его Стил, – только я о вас не слышал. Кто вам говорил, что вы ко мне поступите?
– Понимаете, – пояснил Марк, – все это довольно туманно. Я сейчас виделся с Уизером, но он ничего не объяснил.
– А к нему вы как пролезли?
– Меня представил лорд Фиверстоун.
Стил присвистнул.
– Коссер, – окликнул он веснушчатого человека. – Послушайте‑ка! Фиверстоун сгрузил вот этого нам. Повел его прямо к ИО, за моей спиной. Здорово, а?
– Черт знает что! – возмутился Коссер, сурово глядя не на Марка, а на Стила.
– Простите, – уже погромче и потверже вмешался Марк. – Вам беспокоиться незачем. Это недоразумение. Я, видимо, чего‑то не понял. Собственно, я просто приехал посмотреть. Я совсем не уверен, что останусь.
Ни Стил, ни Коссер не обратили на его слова никакого внимания.
– Фиверстоуньи штучки, – сказал Коссер.
Стил обернулся к Марку.
– Я бы вам не советовал принимать всерьез то, что говорит лорд Фиверстоун, – заметил он. – Это не его дело.
– Поймите меня, пожалуйста, – оправдывался Марк, надеясь, что не краснеет. – Я приехал посмотреть, больше ничего. Мне все равно, получу я здесь место или нет.
– Сами знаете, – сказал Стил Коссеру, – у нас в отделе места нет, особенно для тех, кто не знает дела.
– Вот именно, – согласился Коссер.
– М‑р Стэддок, если не ошибаюсь, – прозвучал сзади тоненький голос, принадлежащий, однако, как оказалось, очень толстому мужчине. Марк сразу узнал профессора Филострато, знаменитого физиолога (тем более, что тот говорил с иностранным акцентом); года два тому назад они сидели рядом на банкете. Марку польстило, что такой человек вспомнил его.
– Я чрезвычайно счастлив, что вы среди нас, – сказал итальянец, ласково уводя Марка от Коссера и Стила.
– Честно говоря, – признался Марк, – я в этом не уверен. Меня привез Фиверстоун, но потом он исчез, а Стил… Понимаете, я должен быть в его отделе, а он ничего не знает.
– Стил! – воскликнул Филострато. – Какая нелепость! Ему скоро укажут его место! Быть может, вы и покажете. Я читал ваши работы. Не обращайте на н??го внимания, искренне вам советую.
– Я бы не хотел оказаться в ложном положении… – начал Марк.
– Послушайте меня, мой друг, – прервал его Филострато. – Оставьте эти мысли. Поймите прежде всего, как важна ваша работа, часть нашей общей работы. От нее зависит существование человечества. Да, среди этого сброда вы увидите и наглость, и лукавство. Но это не должно вас трогать.
– Когда мне дадут интересную работу, – ответил Марк, – я и не буду обращать внимания на такие вещи.
– Да, да, вы совершенно правы. Работа даже важнее, чем вы думаете. Вы увидите это сами. Стилы и Фиверстоуны не имеют никакого значения. Если Уизер за вас, какое вам до них дело? Слушайте только его, вы меня понимаете? Ах, да, и еще… Не ссорьтесь с Феей. А на остальных не обращайте никакого внимания.
– С Феей?
– Да. Ее тут зовут Фея. Пренеприятная дама, должен вам заметить! Глава нашей полиции, у нас ведь своя; да, вот и она. Я вас познакомлю. Мисс Хардкастл, разрешите представить вам м‑ра Стэддока.
Марк почувствовал, что руку его невыносимо крепко пожала большая женщина в короткой юбке и черном форменном кителе. Бюст ее сделал бы честь кельнерше былых времен, но сама она казалась скорее крепкой, чем толстой. Лицо у нее было бледное и широкое, голос – густой. Единственной данью женственности был небрежный мазок помады на ее губах. Она жевала незажженную сигару. Заговорив, она вынимала ее изо рта и внимательно глядела на кончик, измазанный помадой и слюной. Кончив фразу, она снова совала сигару в рот. Сейчас она сразу же плюхнулась в кресло, перекинула правую ногу через ручку и устремила на Марка холодный фамильярный взгляд.
«Клик‑клак» – услышала Джейн, ожидавшая за оградой. Дверь открылась, и она увидела высокую женщину примерно своих лет.
– Здесь живет мисс Айронвуд? – обратилась к ней Джейн.
– Она вам назначила? – спросила женщина.
– Не совсем, – ответила Джейн. – Меня послал д‑р Димбл. Он говорил мне, что записываться не надо.
– Ах, вы от д‑ра Димбла! – уже куда радушнее произнесла женщина. – Это дело другое. Входите. Подождите минутку, закрою как следует. Дорожка узкая, вы меня простите, если я пойду впереди?
Женщина повела ее по мощеной кирпичом дорожке мимо слив и яблонь. Потом они свернули налево, на мшистую тропинку, обсаженную крыжовником. Дальше была площадка или полянка, на ней – качели, а за ней – парники. Затем началась настоящая деревушка, какие бывают в больших усадьбах; женщины шли по улочке, и с обеих сторон были всякие постройки – амбары, сараи, еще одна теплица, конюшня, свинарник. Наконец, через огород, расположенный на довольно крутом склоне, они добрались до розовых кустов, чопорных и неприступных в зимнем уборе. Дорожка здесь была выложена дощечками. Джейн постаралась вспомнить, что же напоминает ей этот сад. «Кролик Питер»? note 1 или «Роман о розе»? note 2 Сад Клингзора? Сад из «Алисы»? А может быть, сады на мессопотамских зиккуратах, породившие легенду о райском саде? Фрейд говорит, что мы любим сады, потому что они символизируют женское тело. Мужская точка зрения… Для женщин сад – это нечто иное. Или нет? Неужели женщины тоже неравнодушны к женскому телу? Ей вспомнилась фраза: «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем бог». Откуда это? И почему в голову лезет такая чушь? Она собралась. Странное чувство овладело ею – она на чужой земле, и надо держаться изо всех сил. В эту минуту они вынырнули из‑под лавров к маленькой двери, около которой стояла бочка с водой. Наверху, в длинной стене, хлопнуло окно.
Чуть позже Джейн оказалась в большой комнате с печкой вместо камина. Ковра тут не было, стены были выбелены, и все это напоминало монастырь. Шаги высокой женщины затихли в переходах, и теперь Джейн слышала лишь карканье ворон. «Попалась я, – подумала она. – Придется отвечать на всякие вопросы». Она считала себя современным человеком, который может говорить о чем угодно, но сейчас в ее сознании то и дело всплывали вещи, о которых она не могла бы сказать вслух. «У зубных врачей хоть журналы лежат», – подумала она и открыла какую‑то книгу. Там было написано: «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем бог. Желать, чтоб твоей красоты желали – суетность Лилит. Желать, чтобы твоей красоте радовались – послушание Евы. Лишь в возлюбленном счастлива возлюбленная своей красотой. Послушание – путь к радости, смирение…»
Дверь отворилась. Джейн густо покраснела и захлопнула книгу. В дверях стояла высокая молодая женщина. Сейчас она вызывала в Джейн тот полузавистливый восторг, который женщины часто испытывают к другому, чем у них, типу красоты: «Хорошо быть такой высокой, – подумала Джейн, – такой смелой, как амазонка, такой решительной».
– Вы м‑сс Стэддок? – спросила женщина.
– Да, – ответила Джейн.
– Мы ждали вас, – сказала женщина. – Меня зовут Камилла, Камилла Деннистоун.
Джейн пошла за ней по узким переходам, думая о том, что они, должно быть, еще в задней, непарадной части дома, а дом этот очень большой. Наконец, Камилла постучала в дверь, тихо сказала: «Она пришла» (Джейн подумала: «как служанка») – и отошла в сторону. Мисс Айронвуд, вся в черном, сидела, сложив на коленях руки, точно так же, как в последнем сне, если это был сон.
– Садитесь, моя милая, – сказала мисс Айронвуд.
Руки у нее были очень большие, но никак не грубые. У нее все было большим – и нос, и рот, и серые глаза. По‑видимому, ей давно перевалило за пятьдесят.
– Как вас зовут, моя милая? – спросила мисс Айронвуд и взяла карандаш.
– Джейн Стэддок.
– Вы замужем?
– Да.
– Муж знает, что вы к нам пришли?
– Нет.
– Простите, сколько вам лет?
– Двадцать три.
– Так, – сказала мисс Айронвуд. – Что же вас беспокоит?
Джейн вдохнула побольше воздуха.
– Я вижу странные сны, – ответила она. – Вероятно, у меня депрессия.
– Какие именно сны? – уточнила мисс Айронвуд.
Джейн рассказывала довольно сбивчиво и глядела на сильные пальцы, державшие карандаш; суставы этих пальцев становились все белее, на руке вздулись вены, и, наконец, карандаш сломался. Джейн смолкла в удивлении и подняла голову. Большие серые глаза все так же смотрели на нее.
– Продолжайте, моя милая, – подбодрила ее мисс Айронвуд.
Когда Джейн закончила, мисс Айронвуд довольно долго молчала, и Джейн начала сама:
– Как вы считаете, у меня что‑то серьезное? Это болезнь?
– Нет, – ответила мисс Айронвуд.
– Значит, это пройдет?
– Не думаю.
Джейн удивилась.
– Неужели меня нельзя вылечить?
– Да, вылечить вас нельзя, потому что вы не больны.
«Она издевается, – подумала Джейн. – Она считает, что я сумасшедшая».
– Какая ваша девичья фамилия? – спросила мисс Айронвуд.
– Тюдор, – ответила Джейн. В другую минуту она бы смутилась, ибо очень боялась, как бы не подумали, что она этим гордится.
– Йоркширская ветвь?
– Да…
– Вы не читали небольшую книгу, всего в сорок страниц, о битве при Вустере? Ее написал ваш предок.
– Нет. У папы она была. Он говорил, что это единственный экземпляр. Но потом она куда‑то пропала.
– Ваш отец ошибался, сохранилось еще по меньшей мере два экземпляра. Один – в Америке, другой – здесь, у нас.
– Так что же это за книга?
– Ваш предок абсолютно верно описал битву в тот самый день, когда она состоялась. Но он там не был. Он был в Йорке.
Джейн растерянно смотрела на мисс Айронвуд.
– Ваш предок видел битву во сне, – сказала та.
– Я не понимаю…
– Ясновидение передается по наследству.
Джейн задохнулась, словно ее оскорбили. Именно такие вещи она ненавидела. Что‑то древнее, непонятное, неразумное без спроса врывалось в ее жизнь.
– У вас нет доказательств… – начала она.
– У нас есть ваши сны, – перебила ее мисс Айронвуд.
Тон ее, и без того серьезный, стал строгим. «Неужели она не понимает, – думала Джейн, – что человеку неудобно обвинить во лжи даже далекого предка?»
– Сны? – настороженно выговорила она.
– Да, – подтвердила мисс Айронвуд.
– Что вы имеете в виду?
– Я считаю, что вы видите правду. Алькасан действительно сидел в камере, к нему приходил человек.
– Но это же смешно! – возмутилась Джейн. – Это чистое совпадение, а потом был обычный кошмар. Ему отвернули голову! И… откопали старика, оживили…
– Небольшие неточности есть, но остальное – правда.
– Я в такие вещи не верю.
– Конечно. Вас так воспитали, – заметила мисс Айронвуд. – Но вам придется самой убедиться, что у вас дар ясновидения.
Джейн подумала о фразе из книги и о самой мисс Айронвуд – их она тоже знала заранее… Но это же чепуха!..
– Значит, вы не можете мне помочь? – спросила она.
– Я могу сказать вам правду, – отвечала мисс Айронвуд. – Во всяком случае, пытаюсь.
– Но вы не можете это остановить… вылечить?
– Ясновидение – не болезнь.
– Да на что оно мне! – вскричала Джейн.
Мисс Айронвуд молчала.
– Может, вы мне кого‑нибудь порекомендуете? – спросила Джейн.
– Если вы пойдете к психоаналитику, – отозвалась мисс Айронвуд, – он будет вас лечить, исходя из предпосылки, что эти сны порождение вашего подсознания. Не знаю, что из этого выйдет. Боюсь, что ничего хорошего. А сны останутся.
– Зачем все это? – возмутилась Джейн. – Я хочу жить нормально. Я хочу работать. Почему именно я должна такое терпеть?
– Ответ на ваш вопрос известен лишь высшим силам.
Они обе помолчали. Потом Джейн неловко поднялась и сказала:
– Что ж, я пойду. – И вдруг прибавила: – А вы откуда знаете, что это правда?
– На это я отвечу. Мы знаем, что сны ваши – правда, ибо часть фактов известна нам и без них. Именно поэтому д‑р Димбл так вами заинтересовался.
– Значит, он меня послал не ради того, чтобы помочь мне, а ради вашей пользы?! – удивилась Джейн. – Жаль, что я этого не знала. Вышло недоразумение. Я думала, он хочет мне помочь.
– Он и хочет. Кроме того, он хочет помочь нам.
– Очень рада, что меня не забыли… – с ледяной иронией произнесла Джейн, но попытка не удалась. Она все‑таки растерялась и сильно покраснела. Ведь она была очень молода.
– Милая моя, – сказала мисс Айронвуд. – Вы не понимаете, как все это серьезно. То, что вы видели, связано с делами, перед которыми и наше с вами счастье, и даже самая жизнь поистине ничтожны. От вашего дара вам не избавиться. Не пытайтесь подавить его. Ничего не выйдет, а вам будет плохо. С другой стороны, вы можете употребить его во благо. Тогда и сами вы придете в себя, и людям очень поможете. Если же вы расскажете о нем кому‑нибудь еще, им воспользуются почти наверняка те, для кого и счастье ваше, и жизнь – не важнее, чем жизнь и счастье мухи. Вы видели во сне настоящих, существующих людей. Вполне возможно, они знают, что вы невольно следите за ними. Если это так, они не успокоятся, пока не завладеют вами. Советую вам быть с нами, это лучше и для вас самой.
– Вы все время говорите «мы». Тут что, какое‑нибудь общество?
– Если хотите, можете называть это обществом.
Джейн уже несколько минут стояла. Все возмутилось в ней – и уязвленное самолюбие, и ненависть к таинственному. Ей было важно одно: не слышать больше серьезного, терпеливого голоса. «Она мне только повредила», – думала Джейн, все еще видя в себе больную. Вслух она произнесла:
– Мне пора. Я не понимаю, о чем вы говорите. И я не хочу ни во что ввязываться.
К обеду Марк немного повеселел, благодаря виски, которое они пили с мисс Хардкастл. Я обману вас, если скажу, что Фея ему понравилась. Конечно, он ощущал ту гадливость, которую ощущает молодой мужчина в обществе непристойно‑развязной, но привлекательной женщины. Собеседница его явно это понимала и даже находила в этом удовольствие. Она рассказывала ему множество зверских анекдотов. Марк часто видел, как женщины пытаются острить по‑мужски; и это шокировало его, но все же он чувствовал свое превосходство. Фея оставила мужчин далеко позади. Затем она перешла к профессиональным темам, и Марк содрогнулся, услышав, что в девяноста случаях из ста казнят не тех, кого надо. Сообщила она и некоторые детали казней, которые ему и в голову не приходили.
Да, это было противно. Однако, все перекрывало дивное ощущение, что ты – свой человек. За день он много раз чувствовал себя чужим, и чувство это исчезло, когда мисс Хардкастл заговорила с ним. Жизнь она прожила интересную. Она побывала и суфражисткой, и британской фашисткой, не один раз сидела в тюрьме, встречалась с премьерами, диктаторами, кинозвездами. Она знала с обеих сторон, что может, а чего не может полиция, и считала, что может она почти все. Институтскую полицию она ставила очень высоко; ?? сообщила, что сейчас особенно важно внушить публике, насколько лечение гуманней наказания. Однако, на ее пути еще встало немало бюрократических преград. «Правда, газеты все за нас, кроме двух, – изрекла она. – Ничего, мы и эти прихлопнем». Марк не совсем понял ее, и она объяснила, что полиции страшно мешает идея «заслуженного наказания». Считается, что с преступником можно сделать то‑то и то‑то, но не больше. У лечения же пределов нет – лечи себе, пока не вылечишь, а уж вылечился ли больной, решать не суду. Лечить гуманно, а предотвращать болезнь – еще гуманней. Скоро все, кто попадется в руки полиции, будут под контролем института, а там и вообще все, каждый человек. «Тут‑то мы с тобой и нужны, – доверительно заметила она, тыкая пальцем Марку в жилет. – В конечном счете, сынок, что полицейская служба, что социология, – одна собака. Значит, нам с тобой вместе работать».
Насчет Стила она отметила сразу, что он человек опасный. «А главное, – посоветовала она, – ладь с двумя: с Фростом и с Уизером». Над страхами его она посмеялась. «Ничего! Главное – не лезь, куда не просят. Всему свое время. А пока что делай дело, и не всему верь, что говорят.»
За обедом Марк оказался рядом с Хинджестом.
– Ну, как? – осведомился тот. – Остаетесь?
– Вроде бы да, – ответил Марк.
– А то бы я вас прихватил, – заметил Хинджест. – Сегодня еду.
– Почему же вы уезжаете?
– Знаете ли, кому что нравится. Если вам по вкусу итальянские евнухи, сумасшедшие священники и такие бабы – что ж, говорить не о чем.
– Мне кажется, нельзя судить по отдельным людям. Это все‑таки не клуб.
– Судить? В жизни не судил, кроме как на цветочных выставках. Я думал, здесь хоть какая‑то наука. Оказывается, это скорее политический заговор. Вот я и еду домой. Стар я для таких дел, а если уж играть в заговорщиков, то я лучше выберу себе других, по вкусу.
– Вы хотите сказать, что не одобряете социального планирования? Конечно, с вашей сферой знания оно не связано, но с социологией…
– Такой науки нет. А если бы я увидел, что химия вместе с тайной полицией под управлением старой бабы без лифчика работает над тем, как отобрать у людей дома, детей, имущество, я послал бы ее к чертям и стал разводить цветы.
– Мне кажется, я понимаю вашу симпатию к маленьким людям, но когда занимаешься тем, что действительно жизненно важно…
– Вот что получается, – перебил Хинджест, – когда изучают человека. Людей изучать нельзя, их можно узнавать, а это дело другое. Поизучаешь их, поизучаешь – и захочешь отобрать то, ради чего живут все, кроме кучки интеллектуалов.
– Билл! – крикнула Фея, сидевшая почти напротив, чуть наискосок. Хинджест повернулся к ней, и лицо его стало багровым.
– Вы что, сейчас и едете? – прогрохотала Фея.
– Да, мисс Хардкастл, еду.
– А меня не подкинете?
– Буду счастлив, – пробурчал Хинджест, – если только нам в одну сторону.
– Вам куда?
– В Эджстоу.
– Через Брэнсток?
– Нет. Я сверну у ворот старого поместья, на Поттерс‑Лейн.
– Ах, черт! Не подходит. Ладно, успеется.
После обеда, уже в пальто, Хинджест снова заговорил с Марком, и тому пришлось дойти с ним до машины.
– Послушайте меня, Стэддок, – сказал он. – Или сами как следует подумайте. Я в социологию не верю, но в Брэктоне вы хоть живете по‑человечески. Здесь вы и себе повредите… и, честное слово, еще многим.
– На все могут быть две точки зрения, – заметил Марк.
– Что? Две? Сотни их может быть, пока не знаешь ответа. Тогда будет одна. Но это не мое дело. Доброй ночи.
– Доброй ночи, – попрощался Марк, и машина тронулась.
К вечеру похолодало. Орион, неведомый Марку, сверкал над деревьями. В дом идти не хотелось. Хорошо, если еще побеседуешь с интересными людьми; а вдруг опять будешь слоняться как чужой, прислушиваясь к разговорам, в которые неудобно вклиниться? Однако Марк устал. Вдоль фасада он добрался до какой‑то дверцы и, минуя холл, пошел прямо к себе.
Камилла Деннистоун проводила Джейн до ворот, которые выходили на дорогу гораздо дальше. Джейн не хотела показаться ни слишком открытой, ни слишком застенчивой, и потому попрощалась кое‑как. Она не знала, чушь ли все это, но хотела верить, что чушь. Нет, ее не втянешь, ее не впутаешь. Она сама себе хозяйка. Джейн давно считала, что главное – сохранить свою независимость. Даже тогда, когда она поняла, что выйдет замуж за Марка, она подумала: «Но жить я буду собственной жизнью». Мысль эта не покидала ее больше, чем на пять минут. Она всегда помнила, что женщина слишком многим жертвует ради мужчины, и обижалась, что Марк этого не понимал. Она и ребенка не хотела именно потому, что боялась, как бы он не помешал ей жить собственной жизнью.
Когда она вошла к себе, зазвонил телефон.
– Это вы, Джейн? – услышала она. – Это я, Маргарет. У нас такая беда… Приеду, расскажу. Сейчас не могу, слишком разозлилась. Вам негде меня положить? Что? Марк уехал? Да, с удовольствием, если вас это не затруднит. Сесил ночует у себя в колледже. Точно не помешаю? Спасибо вам огромное. Через полчаса приеду.
4. ЛИКВИДАЦИЯ АНАХРОНИЗМОВ
Джейн только постелила чистое белье на вторую кровать, когда явилась миссис Димбл со множеством сумок.
– Вот спасибо, что приютили, – щебетала она. – Куда мы только ни просились, нигде нет мест. Здесь просто жить невозможно! В каждой гостинице все занято, всюду эти, институтские – машинистки, секретарши, администраторы какие‑то, ужас… Если бы у Сесила не было комнаты в колледже, ему пришлось бы спать на станции!
– Да что же с вами случилось? – спросила Джейн.
– Выгнали нас, вот что!
– Быть не может… то есть, они не имеют права…
– И Сесил так говорит. Нет, вы подумайте, Джейн! Смотрим мы утром из окна и видим грузовик прямо на клумбе, где розы, а из него вылезают настоящие каторжники с лопатами. В нашем собственном саду. Какой‑то карлик в форменной фуражке говорит с Сесилом, а сам курит… у него висит на губе сигарета. И знаете, что он сказал? Что мы можем побыть в доме – не в саду, в доме! – до завтрашнего утра.
– Наверное… наверное, это ошибка…
– Сесил позвонил в колледж, но там никого не было. Мы звонили все утро, а они в это время срубили ваш любимый бук и все сливы. Если бы я так не злилась, я бы глаза выплакала. В общем, Сесил пошел к этому Бэзби, но толку не добился. Ах, конечно, недоразумение, но причем тут мы, езжайте в Беллбэри! Пока суд да дело, в доме уже просто нельзя было жить!
– Почему?
– Господи, что творилось! Грузовики, трактора, какой‑то кран привезли… Никто не мог к нам пробиться. Молоко привезли в два, мяса так и не было, мясник позвонил, что пройти нельзя. Мы сами еле выбрались, чуть не час шли до моста. Как во сне, честное слово! Грохот страшный, все разрыли, на лугу какие‑то будки… А народ! Истинные каторжники! Я и не знала, что в Англии есть такие рабочие. Ужас, ужас!.. – М‑сс Димбл сняла шляпку и стала ею обмахиваться.
– Что же вы будете делать? – спросила Джейн.
– Бог его знает! – вздохнула м‑сс Димбл. – Сесил звонил юристу, но тот сам растерян. Говорит, что в юридическом смысле у этого института какое‑то особое положение. Насколько я поняла, за рекой вообще не будет домов. Что? Ох, совершеннейший ужас! Тополя вырубили, домики у церкви ломают. Бедняжка Айви плачет, вся пудра слезла, такой страшный вид! Мало ей горя, еще жить негде! Я и то рада, что выбралась живой. Люди какие‑то странные… трое зашли в кухню, взять воды, так Марта чуть не рехнулась. Когда Сесил к ним вышел, я думала, они его побьют, нет, правда! Спасибо, полисмен их выгнал. Да, и полицейские кишат, тоже очень страшные, с дубинками, как в американских фильмах. Знаете, мы оба подумали: так и кажется, что немцы победили. А вот и чай! Как хорошо…
– Живите здесь, м‑сс Димбл, – утешила ее Джейн. – Марк может ночевать в Брэктоне.
– О, Господи, – прошептала матушка Димбл, – слышать не могу про этот Брэктон! Конечно, ваш муж тут ни при чем… Но разлучать вас я не стану. Мы уже все решили, мы переедем в Сент‑Энн.
– Вот оно что… – протянула Джейн, поневоле вспоминая свое недавнее паломничество.
– Ох ты, какая я свинья! – огорчилась м‑сс Димбл. – Болтаю только о себе, а вам надо столько мне рассказать. Видели вы Грэйс? Понравилась она вам?
– Это мисс Айронвуд?
– Да.
– Видела. Понравилась ли – не знаю… Да не могу я ни о чем думать! Вы же истинная мученица.
– Нет, – возразила м‑сс Димбл. – Я не мученица. Я просто старая, я сержусь, у меня болит голова, и я болтаю, чтобы себя утешить. У нас хоть деньги есть, а у Айви нет, ей не на что жить. Конечно, в нашем доме было хорошо, но ведь и печально. Кстати, я часто думаю, любят ли люди радоваться? Мы завели большой дом для детей, а я ни одного так и не родила… Наверное, слишком тосковала, пока Сесил не придет, жалела себя… Еще стала бы, как эта женщина у Ибсена, ну, с куклами. Вот Сесилу плохо, он очень любил, чтобы приходили студенты. Джейн, вы в третий раз зеваете. Да, пробудешь тридцать лет замужем, привыкаешь говорить одна. Мужчинам приятней читать, когда мы журчим. Ну вот! Вы опять зевнули…
Ночевать в одной комнате с матушкой Димбл было трудно: она молилась. Джейн просто не знала, куда смотреть, и не сразу заговорила, когда она встала с колен…
– …Вы не спите? – спросила среди ночи матушка Димбл.
– Не сплю, – ответила Джейн. – Я вас разбудила? Я кричала?
– Да, – сказала м‑сс Димбл. – Вы кричали, что кого‑то бьют по голове.
– Понимаете, я видела, как убивали старика. Он вел машину где‑то за городом, доехал до развилки, свернул направо, а на дороге какие‑то люди машут фонарем. Я не слышала, что они говорили, но он вышел из машины. Это не тот, который был раньше, без бороды, только с усами. И величавый такой, смелый, как рыцарь… Ему не понравилось, что говорят эти люди, он одного оттолкнул, другой хотел его ударить, но он не дался. Их трое, он один… Я читала о таких драках, но никогда не видела. Конечно, они его одолели, он упал, и они его долго били чем‑то по голове. И еще проверили, жив ли он, совершенно спокойно! Свет очень странно падал, полосками… но я уже, наверное, просыпалась. Нет, спасибо, ничего. Конечно, это ужасно, но я не так испугалась, как в тот раз. Мне старика жалко.
– Вы сможете уснуть?
– Да, конечно. А как у вас голова, еще болит?
– Нет, спасибо, прошло. Спокойной ночи.
«Наверное, – думал Марк, – это и есть сумасшедший священник, о котором говорил Ящер». Совет должен был собраться в 10:30, и после завтрака пришлось гулять в саду, хотя там было и сыро, и холодно. Страйк подошел сам, и Марку не понравилась и потертая одежда, и грубые башмаки, и темное трагическое лицо. Не таких людей думал он тут встретить.
– Не надейтесь, – заговорил Страйк, – обойтись без насилия! Сопротивляться нам будут, но мы не испугаемся. Мы будем тверды. Многие скажут, что мы хотели смуты. Пускай! Мы не намерены охранять организованный грех, который зовется обществом.
– Вот я и говорю, – сказал Марк, – что мне вас понять трудно. Я именно хочу охранять общество. Какие еще могут быть цели? Конечно, вы стремитесь к чему‑то высшему, нездешнему…
– Всем сердцем, всем разумом, всей душой, – перебил Страйк, – я ненавижу эти слова! Такими уловками мир сей, орудие и тело смерти, искажает и уродует простое учение Христа. Царство Божие придет сюда, на землю, и всякая тварь преклонится перед именем Христовым.
Марк легко прочитал бы юным студенткам лекцию об абортах или педерастах, но при этом имени он смутился, покраснел и так рассердился и на себя, и на Страйка, что покраснел еще больше. С ужасом вспоминая уроки закона Божьего, он пробормотал, что не разбирается в богословии.
– В богословии?! – гневно переспросил Страйк. – Это не богословие! Богословие – болтовня, обман, игрушка для богатых. Я нашел Господа не в лекционных залах, а в угольных шахтах и у гроба моей дочери. Помните мои слова: Царствие придет здесь, на земле, в Англии. Наука – его орудие, и оно непобедимо. Почему же, спросите вы?
– Потому что наука основана на опыте? – предположил Марк.
– Нет! – вскричал Страйк. – Потому что оно – в руке Божьей! Наука – орудие гнева, а не исцеления. Я не могу объяснить это так называемым христианам. Они слепы. Им мешают грязные клочья либерализма, гуманизма, гуманности. Мешают им и грехи, хотя грехи эти – лучшее, что в них есть. И вот, я один, я нищ, я немощен, я недостоин, но я – пророк, и других пророков нет! Господь явится в силе, и всюду, где сила – Его знамение. Даже самые слабые из тех, с кем я связал свою судьбу, не обольщаются жизнью, не жаждут мира, не держатся за человеческие ценности.
– Значит, – спросил Марк, – вы сотрудничаете с институтом?
– Сотрудничаю?! – возмутился Страйк. – Сотрудничает ли горшечник с глиной?! Сотрудничал ли Господь с Киром?! Я ??спользую их. Да, и они используют меня, мы – орудия друг для друга. Это и вас касается, молодой человек. Выбора нет, назад не уйти, вы положили руку на плуг. Отсюда не уходят. Всякий, кто попытается, погибнет в пустыне. Вопрос лишь в том, рады вы или не рады. Вопрос лишь в том, подвергнетесь ли вы суду или вступите в права наследства. Да, это правда – святые унаследуют землю – здесь, у нас, очень скоро! Разве вы не знаете, что мы, и только мы будем судить ангелов? – Страйк понизил голос. – Мертвые воскресают. Вечная жизнь началась. Вы это увидите сами, молодой человек!
– Двадцать минут одиннадцатого, – сказал Марк. – Нам не пора?
Страйк не ответил, но повернул к дому. Чтобы не возвращаться к прежней теме, Марк заговорил о том, что и впрямь его заботило:
– Я бумажник потерял. Денег там мало, фунта три, но письма, то‑се… В общем, неприятно. Что мне делать?
– Скажите слуге, – ответил Страйк.
Заседание уже началось, вел его сам Уизер, но шло оно вяло, и Марк скоро догадался, что настоящие дела вершатся не здесь. Собственно, он и не думал, что сразу попадет в святая святых, или хотя бы в избранный круг. Однако он надеялся, что ему не придется слушать, как переливают из пустого в порожнее на призрачных заседаниях. Речь шла о работах в Эджстоу. По‑видимому, институт одержал над кем‑то победу и мог теперь спокойно сломать норманскую церковку. Марк не интересовался архитектурой и слушал вполуха. Но к концу Уизер приберег важную весть. Он был уверен, что присутствующие уже все знают («И почему они всегда так говорят?» – подумал Марк), но считал своим печальным долгом сообщить о трагической гибели профессора Хинджеста. Насколько можно было понять из туманного рассказа Уизера, Ящера нашли у машины, часа в четыре утра, недалеко от Поттерс‑Лейн. Скончался он несколькими часами раньше. Уизер сообщил, что институтская полиция уже связалась со Скотланд‑Ярдом, и предложил выразить благодарность мисс Хардкастл. Раздались пристойные аплодисменты. Тогда Уизер предложил почтить память погибшего минутой молчания.
Все встали. Минута тянулась долго; кто‑то кашлял, кто‑то громко дышал, а из‑под равнодушных личин выглядывал страх, как выглядывают из леса птицы и зверьки, когда кончится пикник, и каждый старался убедить себя, что ничуть не испуган и не думает о смерти.
Потом все задвигались, загудели и разошлись, кто куда.
Утром Джейн было легче, чем обычно, потому что вместе с ней хлопотала м‑сс Димбл. Марк нередко помогал ей, но именно из‑за этого они чаще всего и ссорились, ибо он считал (хотя и не всегда говорил), что незачем столько суетиться. А м‑сс Димбл хлопотала с ней в лад. День был солнечный, и когда они сели завтракать, Джейн совсем повеселела.
М‑сс Димбл хотелось узнать, что же было в Сент‑Энн, и поедет ли Джейн туда снова. На первый вопрос Джейн ответила уклончиво, и гостья приставать не стала, а на второй сказала, что не хочет беспокоить мисс Айронвуд. Все это глупости, теперь ей лучше. Говорила она, глядя на часы и удивляясь, где же м‑сс Мэггс.
– Да, Айви к вам ходить не будет, – сказала м‑сс Димбл. – Я думала, вы поймете. Ей ведь негде жить.
– Вон оно что!.. – рассеянно протянула Джейн. – Куда же она денется?
– В Сент‑Энн.
– К друзьям?
– В усадьбу, как и мы.
– Работать там будет?
– Ну… да, конечно, работать.
М‑сс Димбл ушла часам к одиннадцати. Прежде, чем отправиться «к Грэйс», она собиралась пообедать в городе вместе с мужем. Джейн проводила ее до Маркет‑стрит и почти сразу встретила Кэрри.
– Слышали новости, м‑сс Стэддок? – осведомился он еще значительней и доверительней, чем обычно.
– Нет, а что? – проронила Джейн. Она считала его надутым болваном и удивлялась, как он может нравиться Марку. Но когда он заговорил, лицо у нее стало именно таким, как он хотел. Он сообщил ей, что ночью убили профессора Хинджеста. Тело нашли у машины, голова проломлена. Ехал Хинджест из Беллбэри в Эджстоу. Сейчас Кэрри бежал к ректору, чтобы это обсудить, а только что был в полиции. Убийством он явно завладел и теперь лопался от важности. В другое время Джейн посмеялась бы, но тут убежала от него поскорей и заскочила в кафе, чтобы присесть и выпить кофе.
Хинджеста она видела один раз, но Марк говорил ей, что он сварлив и горд. Страшно было другое: теперь она знала, что «история со снами» не кончилась, а только начинается. Одной ей этого не вынести, она сойдет с ума. Значит, снова идти к мисс Айронвуд? Но ведь это заведет ее еще дальше, во тьму… Ей же так мало надо – чтобы ее оставили в покое! Нет, что же это творится? По всем законам ее жизни такого не может, просто НЕ МОЖЕТ быть!..
Коссер – веснушчатый человек с черными усиками – подошел к Марку после заседания.
– У нас с вами есть работка, – сказал он. – Надо составить отчет о Кьюр Харди.
Марку полегчало. Но Коссер не понравился ему еще вчера, и он с достоинством спросил:
– Значит ли это, что меня зачисляют в ваш отдел?
– То‑то и оно, – ответил Коссер.
– Дело в том, – продолжал Марк, – что ни вы, ни ваш начальник не проявили особого пыла. Я не хотел бы навязываться. Если на то пошло, я вообще могу уехать, если институт во мне не заинтересован…
– Ладно, – прервал его Коссер, – не будем говорить здесь. Пошли наверх.
Беседовали они в холле, и Марк увидел, что к ним идет сам ИО. «Может, сразу и спросим его и все оформим?» – предложил было он, но Уизер внезапно свернул в сторону. Он что‑то мычал, был погружен в раздумья, и Марк понял, что ему не до разговоров. Несомненно, так считал и Коссер, и они с Марком прошли на третий этаж, в какой‑то кабинет.
– Так вот, имеется деревушка, – сказал Коссер, когда они уселись. – Эта земля, у леса, – чистая топь. Не пойму, чего нас туда понесло. В общем, план такой: реку отводим, через Эджстоу она течь не будет. Вот, глядите. К северу, в десяти милях, местечко Шиллингбридж. Отсюда пойдет канал – вон туда, к востоку, где голубая линия, к старому руслу.
– Университет вряд ли согласится, – возразил Марк. – Что будет с Эджстоу без реки?
– Университет мы уломали, – успокоил его Коссер. И вообще, это не наше с вами дело. Нам важно, что канал пройдет прямо через деревушку. Теперь смотрите. Она вот в этой долинке. Э? Были там? Еще лучше! Я этих мест не знаю. С юга ставим плотину, образуется водохранилище. Эджстоу понадобится вода – как‑никак, он станет второй столицей.
– А что же с деревушкой?
– Полный порядок. Строим новую, современную, за четыре мили. Назовем ее Уизер Харди. Вот тут, у железной дороги.
– Видите ли, начнется большой шум. Эту деревню все знают. Пейзаж, старинные дома, богадельня ХVI века, норманская церковь…
– Вот именно. Тут‑то мы с вами и нужны. Составим отчетик. Завтра съездим, поглядим, но писать можно и сейчас, дело известное. Если там пейзаж и старина, значит – условия антисанитарные. Подчеркнем. Потом – население… Как пить дать, там живут самые отсталые слои – мелкие рантье и сельскохозяйственные рабочие.
– Да, рантье – вредный элемент, – согласился Марк. – А вот насчет сельскохозяйственных рабочих можно и поспорить.
– Институт их не одобряет. В планируемом обществе они – большая обуза. Кроме того, они отсталы. В общем, наше дело маленькое – установить факты.
Марк немного помолчал.
– Это нетрудно, – сказал он наконец. – Но я бы хотел сперва разобраться в МОЕМ положении. Может, мне зайти к Стилу? Нельзя же без его ведома начинать работу в его отделе.
– Я бы не шел, – проронил Коссер.
– Почему?
– Ну, во‑первых, Стил ничего вам не сделает, если вас поддерживает ИО. Вообще, лучше к нему не лезть. Работайте себе потихоньку, и он к вам привыкнет. И еще… – Коссер тоже помолчал. – Между нами, в этом отделе скоро многое изменится.
Марк прошел в Брэктоне хорошую тренировку и понял сразу, что Коссер надеется выжить своего начальника. Значит, лучше к Стилу не лезть, пока он тут, но скоро его не будет…
– Вчера мне показалось, – заметил Марк, – что вы с ним вполне ладите.
– У нас хорошо то, – сказал Коссер, – что никто ни с кем не ссорится. Я лично ссор не люблю. Я с кем хочешь полажу, только бы дело делалось.
– Конечно, – согласился Марк. – Кстати, если мы поедем туда завтра, я бы заглянул в город, чтобы переночевать дома.
Марк очень многого ждал от ответа. Если бы Коссер сказал: «Пожалуйста», он хотя бы понял, что тот – его начальник. Если бы тот возразил, это было бы еще лучше. Наконец, Коссер мог сказать, что спросит Уизера. Но он только протянул: «Да‑а?», – предоставив Марку гадать, нужны вообще ли здесь какие‑либо разрешения, или просто ??н еще не работает в институте. Потом они принялись за отчет.
Трудились они до вечера, в столовую спустились поздно, и Марку это очень понравилось. Понравилась ему и еда. Людей он не знал, но минут через пять уже запросто со всеми беседовал, стараясь попадать им в тон.
«Какая же тут красота!» – подумал он наутро, когда машина, свернув с шоссе, стала спускаться в долину. Быть может, утренний зимний свет так поразил его потому, что его не учили им восхищаться. Казалось, что и небо, и землю только что умыли. Бурые поля напоминали какую‑то вкусную еду, старая трава прилегала к склонам плотно, как волоски к конскому крупу. Небо было дальше, чем всегда, но и чище, а темно‑серые облака выделялись на бледно‑голубом фоне четко, словно полосы бумаги. Каждый кустик травы сверкал, как черная щеточка, а когда машина остановилась, тишину прорезали крики грачей.
– Ну и орут эти птицы!.. – проворчал Коссер. – Карта у вас? Так вот…
По деревне они ходили часа два, глядя собственными глазами на все анахронизмы. Отсталый крестьянин говорил с ними о погоде. Бездельник, на которого зря расходуются средства, семенил с чайником по двору богадельни, а представительница живущих на ренту людей беседовала с почтальоном, держа на руках толстую собаку. Марку мерещилось, что он – в отпуске (только во время отпуска он бывал в английской деревне), и работа ему нравилась. Он заметил, что у крестьянина лицо умнее, чем у Коссера, а голос – не в пример приятней. Старая рантьерша напоминала его тетку, и это помогло ему понять, как же можно любить «вот таких». Однако, все это ни в малейшей мере не отразилось на его научных взглядах. Даже если бы он не служил в колледже и не знал честолюбия, ничего бы не изменилось. Он прошел такие школы (в прямом, а не в переносном смысле), что для него было реально лишь то, о чем он читал или писал. Живой крестьянин был тенью статистических данных об аграрном элементе. Сам того не замечая, он избегал в своих статьях слов «человек» и «люди» и писал о «группах», «элементах», «слоях», «населении», ибо твердо, как мистик, верил в высшую реальность невидимого.
Однако деревня ему понравилась. К часу дня, уговорив Коссера зайти в кабачок, он даже признался ему в этом. Сэндвичи они взяли с собой, но Марку захотелось пива. В кабачке было темно и тепло. Два отсталых агрария сидели над кружками и жевали толстые ломти хлеба с сыром, а третий беседовал у стойки с хозяином.
– Мне пива не надо, – отказался Коссер. – Не будем засиживаться. Так что вы говорили?
– Я говорил, что утром в таких местах даже приятно.
– Да, утро хорошее. Бодрит. Полезная погода.
– Нет, здесь приятно.
– Где, здесь? – Коссер оглядел комнату. – Ну, знаете! Ни освещения, ни вентиляции. Я лично в алкоголе не нуждаюсь, но я допускаю, что людям нужен допинг, однако зачем принимать его в антисанитарных условиях?
– Не думаю, что дело в допинге, – пробормотал Марк, глядя в кружку. Он вспомнил, как они смеялись и спорили очень давно, студентами, и как легко им было друг с другом. Интересно, где они сейчас – Уодсден, Деннистоун?..
– Не берусь судить, – ответил Коссер на его последнюю фразу, – проблемы питания – не по моей части. Спросите Строка.
– Понимаете, – начал оправдываться Марк, – я имел в виду не кабачок, а всю деревню. Конечно, вы правы, она свое отжила. Но есть в ней что‑то милое. Нам надо очень постараться, чтобы то, что мы создадим взамен, было не хуже.
– Не разбираюсь в архитектуре, – отрезал Коссер. – Это уж скорей Уизер… Как, доели?
Марка затошнило и от него, и от всего института, но он напомнил себе, что сразу не попадешь в круг интересных людей. И вообще, кораблей он не сжег. Дня через два можно уехать в Брэктон. Но не сейчас, не сразу. Надо же поглядеть, чем тут занимаются.
Коссер подвез его к вокзалу, и по пути домой он впервые стал размышлять, что же скажет жене. Нет, он не выдумывал лживых оправданий. Он просто увидел, как входит в дом, как смотрит на него Джейн, и услышал, как произносит остроумные, бодрые фразы, вытеснившие из его сознания все, что с ним в действительности было. Именно потому, что многое и смущало, и даже унижало его, ему хотелось порисоваться. Почти бессознательно он решил ничего не говорить о Кьюр Харди – Джейн очень любила старину. И вот, обернувшись на его шаги, она увидела чрезвычайно бодрого человека. Да, конечно, на службу его берут. Платить? Еще не договорились, это завтра. Место занятное. Нужных людей видел. «Про эту тетку я тебе подробней расскажу, – пообещал он, – просто не поверишь».
Джейн пришлось решать, что же она скажет, гораздо быстрей, чем ему; и она решила не говорить про Сент‑Энн. Мужчины очень не любят, когда с женщиной творится что‑то странное. К счастью, Марк был занят собой и ни о чем не спросил. Рассказы его не особенно ее ободрили. Что‑то тут было не так. Она слишком рано спросила тем испуганным, резким голосом, которого Марк терпеть не мог: «А ты не ушел из колледжа?» «Нет, – ответил он, – что ты», – и продолжал свое. Она слушала невнимательно, зная, что он часто выдумывает, и размышляла о том, что, судя по виду, он в эти дни много пил. Словом, весь вечер он красовался перед ней, а она задавала нужные вопросы, смеялась и удивлялась. Они были молоды, и, хотя не очень любили друг друга, каждый очень хотел, чтобы любили его.
А брэктонцы в это время попивали вместе вино. Они не переоделись к вечеру, и спортивные куртки или вязаные жакеты выглядели странно среди дубовых панелей, свечей и серебра. Фиверстоун и Кэрри сидели рядом. До этого дня, лет триста к ряду, столовая колледжа была одним из приятнейших мест в Англии. Окна ее выходили на реку и на лес. С этой стороны тянулась терраса, где ученые часто сиживали летом. Сейчас, конечно, окна были закрыты, гардины задернуты, но и сквозь них доносились неслыханные прежде звуки: крики, ругань, свистки, скрежет, визг, грохот, звон, лязг, от которых дрожала вся комната. «Свищут зловещие бичи, грозно грохочет железо», – заметил Глоссоп сидящему рядом Джоэлу. Совсем рядом, за рекой, старый лес успешно превращали в ад. Те прогрессисты, чьи окна выходили на эту сторону, выражали недовольство. Даже Кэрри удивлялся тому, как странно воплощаются его мечты, но скрывал это, и беседовал, как ни в чем не бывало, с Фиверстоуном, хотя им обоим приходилось кричать.
– Значит, – орал он, – Стэддок не вернется?
– Вот именно! – вопил Фиверстоун.
– Когда же он подаст заявление?
– Еще не подал? Ах, молодость, молодость! Ничего, нам же лучше!
– Сможем как следует подготовиться?
– Да. Пока бумажки нет, они не в курсе.
– То‑то и оно! Они ведь сами не знают, чего хотят! Мало ли кто им понравится!
– Да! Надо сразу же подсунуть им своего кандидата! Объявим о вакансии, и тут же – бац! – кролик из шляпы!
– Значит, думать начнем прямо сейчас!
– А непременно социолога?
– Нет, это все равно!
– У нас нет политолога.
– Да… хм… Понимаете, они эту науку не жалуют. А может, Фиверстоун, лучше эту, как ее?.. прагматометрию?
– Занятно, что вы это сказали. Тот, о ком я думаю, как раз интересуется и ею. Можно было бы назвать так: специалист по социальной прагматометрии.
– А кто это?
– Лэрд из Кембриджа.
Кэрри никогда о нем не слышал, но глубокомысленно протянул: «А, Лэрд…»
– Как вы помните, – продолжал Фиверстоун, – он хворал и закончил средне. Но в Кембридже экзамены так плохо поставлены, что никто на это не смотрит. Потом он руководил «сфинксами», издавал журнальчик. Ну, Дэвид Лэрд…
– Да, конечно… Только, Дик…
– Что такое?
– Это не очень хорошо. Сам я тоже не придаю значения дипломам, но у нас тут… раз, два, три… и он невольно посмотрел туда, где сидел Палем, толстолицый человек с маленьким ротиком. Даже Кэрри не мог припомнить, что он сделал или написал.
– Да, знаю, – согласился Фиверстоун. – Мы иногда берем не тех, кого следовало бы. Но без нас колледж приглашает вообще невесть кого.
То ли от шума, то ли еще от чего, Кэрри на минуту заколебался. Недавно он обедал в Нортумберлэнде. Там был и Тэлфорд, и все его знали, все слушали, даже сам Кэрри дивился его уму и живости, которых он почему‑то в колледже не проявлял. А вдруг все «эти» так коротко и скучно ему отвечают лишь потому, что он им неинтересен? А вдруг он глуп? Эта дикая мысль промелькнула в его мозгу, но лишь на короткий миг. Приятней было думать, что «они» – просто отсталые, косные люди.
– На той неделе я буду в Кембридже! – кричал тем временем Фиверстоун. – Даю там ужин. Премьер, два газетных босса, Тони Дью. Что? Конечно, знаете. Черный такой, плюгавый. И Лэрд там будет. Он в каком‑то родстве с премьером. А вы не придете? Дэвид мечтает с вами познакомиться. Он очень много о вас слышал… от вашего бывшего студента, забыл фамилию…
– Не знаю… Тут еще Билла хороним, я нужен… По радио не передавали, нашли убийцу или нет?
– Не слыхал. Кстати, раз Ящера нет, у нас уже две вакансии.
– Что‑о‑о? – взвыл Кэрри. – Какой шум! Или я оглох?..
– Эй, Кэрри! – крикнул ему Бразекр, перегнувшись через Фиверстоуна. – Что это делают ваши друзья?
– Почему они так кричат? – спросил кто‑то. – Разве нельзя работать без крика?
– По‑моему, они не работают, – добавил кто‑то еще.
– Слушайте! – воскликнул Глоссоп. – Какая там работа?! Скорее уж футбольный матч.
Все вскочили.
– Что это?! – закричал Рэйнор.
– Они кого‑то убивают, – заключил Глоссоп.
– Куда вы? – спросил Кэрри.
– Посмотрю, в чем дело, – сказал Глоссоп, – а вы соберите всех слуг. И позвоните в полицию.
– Я бы не выходил, – обронил Фиверстоун, наливая себе еще вина. – По‑моему, полиция уже там.
– То есть как?
– А вы послушайте.
– Я думал, это дрель…
– Слушайте!
– Господи, неужели пулемет?!
– Смотрите! Смотрите! – закричали все. Зазвенели стекла. Кто‑то кинулся опустить жалюзи, но вдруг все застыли, тяжело дыша и глядя друг на друга. У Глоссопа на лбу была кровь, а пол усыпали осколки прославленного окна, на котором Мария Генриетта вырезала бриллиантом свое имя.
5. ГИБКОСТЬ
Наутро Марк поехал в Беллбэри поездом. Он обещал жене уточнить насчет оплаты, и это смущало его, но вообще он чувствовал себя неплохо. Само возвращение ему очень понравилось – он просто вошел, снял шляпу, спросил виски. Слуга его узнал. Филострато ему кивнул. Женщины вечно выдумывают, а вот она, реальная жизнь! Выпив виски, он пошел к Коссеру, пробыл у него минут пять, и все померкло.
Стил и Коссер взглянули на него, как глядят на случайного посетителя, и не сказали ничего.
– Доброе утро, – неловко начал Марк.
Стил сделал пометку на каком‑то большом листе бумаги, лежащем перед ним, и спросил, не глядя:
– В чем дело, м‑р Стэддок?
– Я к Коссеру, – сказал Марк. – Вот что, Коссер, в последнем разделе нашего отчета…
– Какой отчет? – спросил Коссера Стил. Коссер криво усмехнулся.
– А, я тут подумал, составлю‑ка отчетик про эту деревеньку. Вчера у меня дел не было, я поехал туда, а Стэддок мне помогал.
– Неважно, – сказал Стил. – Поговорите в другой раз, Стэддок. Сейчас Коссер занят.
– Простите, – сказал Марк. – Давайте разберемся. Значит, этот отчет – частное дело Коссера? Жаль, что я не знал. Я бы не потратил на него восемь рабочих часов. И вообще, кому я подчиняюсь?
Стил, играя карандашом, смотрел на Коссера.
– Я спросил вас, кому я подчиняюсь, мистер Стил, – сказал Марк.
– При чем тут я? – удивился Стил. – Вы, я вижу, не заняты, а я – занят. Ничего я не знаю о ваших делах.
Марк обратился было к Коссеру, но уже просто глядеть не мог на его веснушчатое лицо и пустые глаза. Выходя, он хлопнул дверью и направился к Уизеру.
У его дверей он помедлил немного, услышал какие‑то голоса, но он был настолько сердит, что все‑таки вошел, не заметив, что на стук его ответа не последовало.
– Мой дорогой! – воскликнул ИО, глядя куда‑то в сторону. – Как я рад вас видеть!.. – Тут Марк разглядел, что в кабинете находится еще один человек, некий Стоун, с которым он познакомился в первый же день, за обедом. Стоун переминался с ноги на ногу перед столом, сворачивая и разворачивая кусок промокашки. Рот у него был открыт, и он не обернулся.
– Рад, очень рад… – повторил Уизер. – Тем более, что вы прервали… э‑э… эту неприятную беседу. Я как раз говорил бедному Стоуну, что я всем сердцем хочу превратить наш институт в единое семейство… да, Стоун, единая воля, полное доверие, – вот чего я жду от своих сотрудников. Вы напомните мне, м‑р… э‑э… Стэддок, что и в семьях бывают нелады. Да, дорогой мой, потому я сейчас и не совсем… нет, Стоун, не уходите, мне еще многое нужно вам сказать.
– Может, мне зайти попозже? – спросил Марк.
– Вообще‑то… вообще‑то, мистер Стэддок, обычно записываются у моего секретаря. Поймите, я сам ненавижу формальности и был бы всегда рад вас видеть. Я просто жалею ваше время.
– Спасибо, – откланялся Марк. – Пойду запишусь.
В соседней комнате секретаря не оказалось, но за длинным барьером сидели какие‑то барышни. Марк записался у одной из них на завтра, на десять утра – раньше все было занято – и, выходя, столкнулся с Феей.
– Привет, – сказала она. – Рыщем вокруг начальства? Нехорошо, нехорошо!..
– Или я все выясню, – заявил Марк, – или уеду.
Фея посмотрела на него как‑то странно, по‑видимому – развлекаясь. Потом обняла его за плечи.
– Вот что, сынок, – сказала она, – ты это брось! Толку не будет. Пошли, поговорим.
– О чем тут говорить, мисс Хардкастл, – удивился Марк. – Мне все ясно. Или я получаю здесь работу, или возвращаюсь в Брэктон. Собственно, мне все равно.
Фея не ответила и так сильно сдавила его плечо, что он чуть не оттолкнул ее. Объятия эти напоминали и о полицейском, и о няньке, и о любовнице. Марк шел с ней по коридору и думал, что вид у него поистине дурацкий.
Она привела его в свой кабинет, перед которым кишели девицы из Женской Общественной Полиции Института. Под началом Феи служили и мужчины и их было намного больше, но гораздо чаще, буквально повсюду, вы натыкались на девиц. В отличие от своей хозяйки, они, по словам Фиверстоуна, были «женственны до идиотизма» – все маленькие, пухленькие, в локонах, и вечно хихикали. Мисс Хардкастл обращалась с ними с мужской нагловатой ласковостью.
– Лапочка, нам коктейль! – проревела она, входя в свой кабинет. Там она усадила Марка в кресло, а сама встала спиной к камину, широко расставив ноги. Когда девица принесла коктейль и вышла, Марк начал рассказывать о своих бедах.
– Плюнь и разотри, – заключила Фея. – Главное – не лезь к старику. Начхать тебе на эту мразь, пока он за тебя. А будешь к нему лезть, будет против.
– Это прекрасный совет, мисс Хардкастл, – согласился Марк, – но я не собираюсь оставаться. Мне здесь не нравится. Я почти решил уйти. Только хотел с ним переговорить, чтобы все окончательно выяснить.
– Выяснять он не любит, – предупредила Фея. – У него другие порядки. И очень хорошо, сынок… он свое дело знает. Ох, знает! А уйти… Ты в приметы веришь? Я верю. Так вот, уйти отсюда – не к добру. А на Стилов и Коссеров тебе начхать. Ты проходишь проверочку. Вытянешь – перепрыгнешь через них. Ты знай, сиди тихо. Когда мы начнем настоящую работу, их и в помине не будет.
– Коссер говорил то же самое о Стиле, – невесело усмехнулся Марк, – а что вышло?
– Вот что, друг, – подвела итог Фея, – нравишься ты мне, твое счастье. А то бы я обиделась.
– Я не хотел вас обидеть, – извинился Марк. – Господи, да посмотрите вы с моей точки зрения!
– Нечего мне смотреть, – покачала головой Фея. – Знаешь ты мало, и твоей точке зрения грош цена. Тебе не место предлагают. А куда больше. Выбор простой: или ты с нами, или не с нами. А я‑то разбираюсь, где лучше.
– Я понимаю, – кивнул Марк. – Но я вроде с вами, а делать мне нечего. Дайте мне конкретную работу в отделе социологии, и я…
– Да их скоро в помине не будет! Завели для начала, пропаганды ради. Разгонят не сегодня‑завтра.
– Какие же у меня гарантии, что их сменю я?
– Никаких. Никто их не сменит. Настоящая работа не для них. Настоящей социологией займутся мои люди.
– Что же мне придется делать?
– Положись на меня, – сказала Фея, ставя стакан и вынимая сигару, – расскажу, зачем ты тут нужен, какое у тебя дело.
– Какое же?
– Алькасан, – процедила сквозь зубы мисс Хардкастл (она уже сосала свою бесконечную сигару). – Знаешь такого? – И она не без презрения взглянула на Марка.
– Это физик, которого казнили? – в полной растерянности пробормотал Марк. Фея кивнула.
– Надо его обелить, – сказала она. – Постепенно. Факты у меня в досье. Начнешь с тихой‑мирной статейки. Ничего не скажешь, виноват он или нет, даже намекнешь, что он, конечно, сволочь, но многие против него предубеждены. Казнили его за дело, но очень неприятно думать, что точно так же казнили бы и невиновного. Через денек‑другой пишешь иначе: какой он великий ученый, какую приносил пользу. Факты подберешь за полдня. Потом – письмо протеста в ту газету, где первая статья, ну, и так далее. К этому времени…
– Простите, к чему все это?
– Сказано тебе, Стэддок, надо его обелить. Будет он у нас мученик. Невосполнимая утрата для всего человечества.
– Но зачем же?
– Опять ты за свое! Нет работы – плохо, дают ему работу – кочевряжится. Нехорошо. У нас так не делают. Приказано – выполняй – вот наш закон. Оправдаешь доверие – сам разберешься, что к чему. Ты начни работать, а то ты никак не поймешь, кто мы такие. Мы – армия.
– Может, вы и армия, но я не журналист, – заметил Марк. – Я приехал сюда не для того, чтобы писать статьи в газеты. Кажется, я сразу объяснил Фиверстоуну…
– Ты поскорей бросай эти всякие «для того», «не для того». Я тебе добра желаю. Писать ты умеешь, за то и держим.
– По‑видимому, произошло недоразумение, – заявил Марк. Он был все же не так тщеславен, чтобы намек на литературные таланты компенсировал пренебрежение к его научной значимости. – Я не собираюсь заниматься журналистикой. А если бы собирался, то должен был бы познакомиться получше с политической линией института.
– Тебе что, не говорили? Мы вне политики.
– Мне столько говорили, что я совсем запутался, – признался Марк. – И все‑таки, я не пойму, как можно вести вне политики газетную кампанию. В конце концов, печатать статьи будут или левые газеты, или правые.
– И те, и другие, сынок, – разъяснила Фея. – Ты что, совсем глупый? В левых газетах борьбу против нас назовут происками правых, а в правых газетах – происками левых. Если хорошо повести дело, они сами переколотят друг друга. Короче говоря, мы вне политики, как и всякая истинная сила.
– Не думаю, что вам это удастся, – возразил Марк. – Во всяком случае, в тех газетах, которые читают культурные люди.
– Щенок ты, честное слово, – усмехнулась мисс Хардкастл. – Ты что, не понимаешь? Как раз наоборот!
– Простите?
– Да твоими культурными как хочешь, так и верти. Вот с простыми – с теми трудно. Видел ты, чтобы рабочий верил газете? Он свое знает: всюду одна пропаганда. Газету он читает ради футбола и происшествий. Да, с ним тяжело, попотеешь. А культурные – раз плюнуть!.. Они уже готовенькие. Всему верят.
– Что ж, я один из них, – улыбнулся Марк, – но вам не верю.
– Да ты посмотри! – наступала Фея. – Ты вспомни свои газеты! Выдумали ученые язык попроще – кто его только не хвалил! Обругал его премьер‑министр – и пожалуйста – угроза национальной культуре! А монархия? То, се, пережиток, а когда этот самый отрекся от престола, одних монархистов и печатали. И что же? Перестали газеты читать? Нет. Образованный зачахнет без своих образованных статеек. Не может. Привык.
– Все это очень интересно, мисс Хардкастл, – вежливо согласился Марк, – но причем тут я? Я не журналист, а если бы захотел, стал бы ЧЕСТНЫМ журналистом.
– Ладно, – заключила Фея. – Давай, губи страну, а, может, и весь мир, а заодно – и свою карьеру.
Гражданственность и честность, пробужденные было этой беседой, заколебались. Другое, более сильное чувство пришло им на смену: невыносимый страх стать изгоем.
– Нет, нет, я вас понимаю, – сокрушался Марк. – Я просто спрашивал…
– Мне все одно, Стэддок, – Фея села, наконец, рядом с ним. – Не хочешь – дело твое. Иди, уточняй к старику. Не любит он, чтобы сбегали, но ты сам себе хозяин, твое дело. Да, скажет он Фиверстоуну пару теплых слов!
При имени Фиверстоуна Марк представил себе то, о чем до сих пор толком не думал: возвращение в свой колледж. Что с ним будет? Останется ли он среди избранных? Мыкаться среди Глоссопов и Джоэлов он бы уже не смог. И платят там очень мало, по сравнению с тем, на что он понадеялся. Женатому человеку, оказывается, очень трудно свести концы с концами. Вдруг его пронзила жуткая мысль: а что, если он должен двести фунтов за вступление в клуб? Да нет, чепуха… Не может такого быть.
– Конечно, – проговорил он. – Прежде всего надо пойти к Уизеру.
– Одно тебе скажу, – отвечала Фея. – Сам видишь, я выложила карты на стол. И не вздумай кому‑нибудь все это рассказать. Себя пожалей.
– Ну, что вы!.. – начал Марк.
– Иди уточняй, – сказала она. – Да поосторожней, старик отказов не любит.
Остаток дня Марк провел в печали, всячески избегая людей, чтобы кто‑нибудь не заметил, что он слоняется без дела. Перед обедом он вышел погулять, хотя в этом было мало приятного, когда у тебя нет ни стека, ни соответствующей одежды. Вечером он побродил по участку, но и тут ему не понравилось. Миллионер, построивший Беллбэри, окружил двадцать акров земли кирпичной стеной, на которой, вдобавок, стояла железная решетка. Деревья росли плотными рядами; белый гравий дорожек был так крупен, что с трудом удавалось по нему ступать; огромные клумбы – полосками, ромбами, полумесяцем – чередовались с зарослями вечнозеленых кустов, чьи листья сильно напоминали крашеный металл. Вдоль дорожек, на равном расстоянии, стояли тяжелые скамейки. Словом, все вместе походило на городское кладбище. Однако Марк пошел туда и после ужина, даже обогнул дом и увидел какие‑то пристройки. Сперва он удивился, что здесь пахнет конюшней и раздаются странные звуки, но вспомнил, что институт проводит опыты на животных. Это мало его трогало, он смутно представлял себе мышей, кроликов, быть может – собак; но звуки были другие, погромче. Кто‑то истошно завыл, и вслед за тем хлынул истинный водопад рева, лая, рычанья, даже хохота. Вскоре он оборвался, остались лишь бормотание и хрюканье. Марк не страдал при мысли о вивисекции; напротив, звуки эти показывали, с каким размахом работает институт, из которого он может вылететь. Подумать только, они кромсают дорогих животных, как бумагу, в одной лишь надежде на открытие! Нет, работу получить непременно надо. Однако, звуки были противные, и он поспешил уйти.
Когда он проснулся, то почувствовал, что в этот день его ждут две трудности: разговор с Уизером и разговор с женой. Как он объяснит ей, почему развеялись его мечтания?
Первый осенний туман спустился на Беллбэри. Марк завтракал при свете, почты не было. Слуга принес ему счет за неделю (уже наступила пятница), и он поспешно сунул его в карман, едва взглянув. Об этом, во всяком случае, жене рассказывать нельзя: таких цен и таких статей расходов женщины не понимают. Он и сам подумал было, нет ли ошибки, но он еще не вышел из возраста, когда останешься нищим, лишь бы не обсуждать счет. Допив вторую чашку чая, он полез в карман, не нашел там сигарет и спросил новую пачку.
Без малого час он томился в ожидании. Никто не заговаривал с ним. Все куда‑то спешили с деловым видом. Слуги глядели на него, словно и ему полагалось куда‑нибудь уйти; и он был счастлив, когда смог подняться, наконец, к Уизеру.
Пустили его сразу, но начать разговор оказалось нелегко, ибо Уизер молчал. Голову он поднял, однако взглянул мимо и не предложил сесть. В кабинете было очень жарко. Не зная толком, чего он хочет, уйти или остаться, Марк заговорил довольно сбивчиво. Уизер не перебивал, Стэддок все больше путался, стал твердить одно и то же и замолчал совсем. Молчали довольно долго. Рот у ИО был приоткрыт, губы вытянуты трубочкой, словно он что‑то беззвучно насвистывал или напевал.
– Наверное, мне лучше уйти, – снова начал Марк.
– Если не ошибаюсь, м‑р Стэддок? – не сразу откликнулся Уизер.
– Да, – нетерпеливо отозвался Марк. – Я был у вас на днях с лордом Фиверстоуном. Вы дали мне тогда понять, что для меня есть работа в отделе социологии. Но, как я уже говорил…
– Минуточку, – перебил его Уизер. – Давайте уточним. Конечно, вы понимаете, что в определенном смысле слова, я не распределяю мест. Это зависит не от меня. Я, как бы это выразиться… не самодержец. С другой стороны, моя сфера влияния, сфера влияния совета и, наконец, сфера влияния директора не разграничены раз и навсегда… э‑э… границы между ними гибки. Вот, к примеру…
– Простите, мне предлагали работу или нет?
– Ах, вон что! – рассмеялся Уизер, словно бы удивленный этой мыслью. – Ну, все мы понимаем, что ваше содействие институту было бы очень желательно… чрезвычайно ценно…
– Тогда не уточним ли мы подробностей? Например, сколько я буду получать, кто мой начальник…
– Дорогой друг!.. – улыбнулся Уизер. – Я не думаю, что возникнут… э‑э‑э… финансовые затруднения. Что же до…
– Сколько мне будут платить?
– Это не совсем по моей части… Если не ошибаюсь, сотрудники вашего уровня получают, плюс‑минус, тысячи полторы в год. Вы увидите, такие вопросы у нас решаются просто, сами собой…
– Когда же мне скажут? К кому мне обратиться?
– Не думайте, дорогой мой, что это потолок!.. ??икто из нас не будет возражать, если вы будете получать более высокий…
– Мне достаточно полутора тысяч, – перебил Марк. – Речь не о том. Я… я… – Уизер улыбался все задушевнее, и Марк, наконец, выговорил: – Я надеюсь, что со мной заключат контракт. – И сам удивился своей наглости.
– М‑да… – сказал ИО, глядя в потолок и понижая голос. – У нас все делается не совсем так… но, я думаю, не исключено…
– И самое главное, – сказал Марк, густо краснея. – Кто я такой? Я буду работать у Стила?
Уизер открыл ящик.
– Вот у меня форма, – сказал он. – Не думаю, чтобы ей пользовались, но она, если не ошибаюсь, предназначена именно для таких соглашений… Изучите ее как следует, и мы с вами подпишем ее в любое время…
– Так как же со Стилом?
В эту минуту вошла секретарша и положила перед ИО пачку писем.
– Вот и почта пришла! – умилился тот. – Наверное, мой дорогой, и вас ожидают письма. Вы ведь женаты, я не ошибся?.. – и он улыбнулся доброй отеческой улыбкой.
– Простите, что я вас задерживаю, – сказал Марк, – только ответьте мне насчет Стила. Стоит ли мне заполнять форму, пока не решен этот вопрос?
– Очень интересная тема, – одобрил Уизер. – Когда‑нибудь мы с вами обстоятельно об этом поговорим… по‑дружески, знаете, в неофициальной обстановке… А в данный момент я не буду считать ваше решение окончательным. Загляните ко мне хоть завтра…
Он углубился в какое‑то письмо, и Марк вышел из комнаты, склоняясь к мнению, что институт действительно в нем заинтересован и собирается ему много платить. Со Стилом он уточнит как‑нибудь попозже, а пока изучит форму.
Внизу его действительно ждало письмо.
«Брэктон Колледж, Эджстоу, 20.X.19…
Дорогой Марк!
Все мы огорчились, когда Дик сказал, что Вы уходите от нас, но для Вашей карьеры так лучше. Когда институт переберется сюда, мы с Вами будем часто видеться. Если Вы еще не послали прошение об отставке, время терпит. Напишете его к концу следующего семестра, а мы на первом же заседании подберем человека. Кого бы Вы сами предложили? Вчера мы с Джеймсом и Диком толковали про Дэвида Лэрда (Представляете, Джеймс о нем и не слышал!). Вы, конечно, знаете его работы. Не напишете ли Вы мне о них, о нем самом? Я его увижу на той неделе в Кембридже, на банкете. Будет премьер, газетчики. Конечно, вы слышали, что у нас тут творилось. Институтская полиция нервная какая‑то, начали стрелять в толпу. Разбили окно Марии Генриетты, камни попадали в залу. Глоссоп сорвался, полез было объясняться, но я его урезонил. Конечно, все это между нами. Многие были бы рады придраться и поднять крик, зачем мы продали лес. Однако, я спешу, надо распорядиться насчет похорон (Ящер).
Искренне Ваш Дж.С.Кэрри.»
Первые же слова повергли Марка в ужас, но он попытался себя успокоить. Надо немедленно объяснить, что это недоразумение, и все будет в порядке. Нельзя же выгнать человека из‑за какого‑то частного разговора! Он вспомнил, что именно в таких случаях избранные говорили: «дела, знаете, делаются не в кабинетах», «мы не бюрократы» и тому подобное; но он и это постарался отогнать. Тут появилось еще одно воспоминание: так потерял работу бедняга Кеннингтон; однако, ведь то был чужак, а он – избранный из избранных, почище Кэрри. А вдруг нет? Если в Беллбэри он чужак, не значит ли это, что Фиверстоун больше его не поддерживает? Если он вернется в Брэктон, останется ли он в прежнем кругу? Может ли он вообще вернуться? Ну, как же! Надо написать сейчас письмо, объяснить, что он уходить не собирается, и вакансии у них не будет. Марк сел за стол и взял перо. Тут новая мысль пронзила его: Кэрри покажет письмо Фиверстоуну, тот скажет об этом Уизеру, и Уизер решит, что Марк не собирается работать в ГНИИЛИ… Эх, будь, что будет!.. В конце концов, он откажется от фантазий и снова станет работать там, у себя. А если это уже невозможно? Тогда у них с Джейн не будет ни гроша. Фиверстоун, с его влиянием, перекроет ему все дороги. А где, кстати, Фиверстоун?
Как бы то ни было, вести себя надо умно. Он позвонил и спросил виски. Дома он с утра не пил, да и днем пил пиво. Но сейчас его познабливало. Недоставало еще простудиться!..
Писать он решил разумно и уклончиво. Нельзя просто сказать, что вернешься – поймут, что его не взяли в Беллбэри. Но и слишком туманно – не годится. А ну его к чер??у! Двести фунтов за клуб, этот счет, – Джейн придется объяснять… Да и отсюда не уйдешь. В конце концов, виски и многочисленные сигареты помогли ему написать так:
«Государственный Научно‑Исследовательский
Институт Лабораторных Исследований
21.X.19…
Дорогой Кэрри!
Фиверстоун, по‑видимому, ошибся. Я и не собирался уходить. В сущности, я склоняюсь к тому, чтобы не брать в ГНИИЛИ полной нагрузки, так что в колледж вернусь дня через два. Меня беспокоит здоровье жены, и я не хотел бы с ней разлучаться. Кроме того, хотя здесь все исключительно ко мне расположены и упрашивают остаться, сама работа – не столько научная, сколько организационная и даже газетная. Словом, если Вам скажут, что я ухожу, не верьте. Желаю Вам хорошо провести время в Кембридже. Однако, и в сферах же Вы вращаетесь, не угонишься!
Ваш Марк Г.Стэддок.
P.S. Лэрд не годится в любом случае. Опубликовал он одну‑единственную статью, да и ту люди знающие всерьез не принимают. Писать он не умеет вообще. А умеет только одно: хвалить заведомую дрянь.»
Легче ему стало всего на минуту. Запечатав конверт, он сразу задумался, как ему дотянуть день. Сперва он пошел к себе, но там вовсю работал пылесос: по‑видимому, в такой час никто у себя не сидел. Внизу, в холле, тоже шла уборка. В библиотеке было почти пусто, но двое ученых, склонившихся друг к другу, замолчали и недружелюбно взглянули на него. Он взял какую‑то книгу и ушел. В другом холле, у доски объявлений, стоял Стил и какой‑то человек с остроконечной бородкой. Никто не обернулся, но оба замолчали. Марк пересек холл и посмотрел на барометр. Повсюду хлопали двери, стучали шаги, звонили телефоны – институт работал вовсю, а ему места не было. Наконец он выглянул в сад и увидел плотный, мокрый, холодный туман.
Любой рассказ лжив в одном смысле: он не может передать, как ползет время. День тянулся так долго, что вы не вынесли бы его описания. Иногда Марк шел к себе (уборка кончилась), иногда выходил в туман, иногда бродил по холлам. Там, где народу было много, он старался, чтоб никто не заметил, как он растерян и подавлен; но его вообще не замечали.
Часа в два он встретил Стоуна в каком‑то коридоре. Он не думал о нем со вчерашнего утра, но сейчас, взглянув на него, понял, что не ему одному здесь плохо. Вид у Стоуна был такой, как у новеньких в школе или у «чужих» в Брэктоне – словом, тот самый, который воплощал для Марка худшие страхи. Инстинкт советовал с ним не заговаривать, он знал по опыту, как опасно дружить или даже беседовать с тем, кто идет ко дну: ты ему не поможешь, а он тебя утопит. Но сейчас ему самому было так одиноко, что он болезненно улыбнулся и сказал: «Привет».
Стоун вздрогнул, словно сам боялся, чтобы с ним заговорили.
– День добрый, – быстро ответил он, не останавливаясь.
– Пойдемте, потолкуем, если вы не заняты, – предложил Марк.
– Я… я не знаю, долго ли я буду свободен, – промямлил Стоун.
– Расскажите мне про это место, – попросил Марк. – Нехорошо тут, вроде бы, но я еще не все понял. Пойдемте ко мне?
– Я так не думаю!.. – быстро заговорил Стоун. – Совсем не думаю! Кто вам сказал, что я так думаю?..
Марк не ответил, увидев, что прямо к ним идет ИО. В следующие недели он понял, что тот бродит по всему институту. Нельзя было сказать, что он подсматривает – о приближении его оповещал скрип ботинок, а часто и мычание. Иногда его видели издалека, ведь он был высок, а если бы не сутулился, был бы даже очень высоким; и нередко лицо его, обращенное прямо к вам, возникало над толпой. На сей раз Марк впервые заметил эту вездесущность и подумал, что худшего времени ИО выбрать не мог. Он шел к ним медленно, глядя на них, но нельзя было понять, видит он их или нет. Говорить они больше не могли.
Выйдя к чаю, Марк увидел Фиверстоуна и поспешил сесть рядом с ним. Он знал, что в его положении нельзя навязываться, но ему было уже совсем худо.
– Да, Фиверстоун, – бодро начал он, – никак я ничего не разузнаю… – И облегченно перевел дух, увидев, что тот улыбается в ответ. – Стил меня, прямо скажем, принял плохо. Но ИО и слышать не хочет об уходе. А Фея просит писать в газету статьи. Что же мне делать?
Фиверстоун смеялся долго и громко.
– Нет, – продолжал Марк, – я никак не пойму. Попробовал прямо спросить старика…
– О, Господи! – выговорил Фиверстоун и засмеялся еще громче.
– Что же, из него ничего нельзя вытянуть?
– Можно, но не то, что вы хотите, – Фиверстоун прищелкнул языком.
– Как же узнать, чего от тебя ждут, если никто ничего не говорит?
– Вот именно?
– Да, кстати, почему Кэрри думает, что я ухожу?
– А вы не уходите?
– И в мыслях не имел.
– Вон как! А Фея мне сказала, что вы остаетесь тут.
– Неужели я буду ЧЕРЕЗ НЕЕ просить отставки?
– А, все одно! – Фиверстоун весело улыбнулся. – Захочет ГНИИЛИ, чтоб вы еще где‑то числились, будете числиться. Не захочет – не будете. Вот так.
– Причем тут ГНИИЛИ? Я работал в Брэктоне, и продолжаю там работать. Им до этого дела нет. Я не хочу оказаться между двумя стульями.
– Вот именно.
– Вы хотите сказать?
– Послушайте меня, подмажьтесь поскорей к Уизеру. Я вам помогаю, а вы все портите. Сегодня он уже не тот. Расшевелите его. И, между нами, не связывайтесь вы с Феей. Наверху ее не жалуют.
– А Кэрри я написал, что все это чушь, – сказал Марк.
– Что ж, вреда нет, письма писать приятно.
– Не выгонят же меня, если Фея что‑то там переврала!..
– Насколько мне известно, уволить могут только за очень серьезный проступок.
– Да нет, я не о том. Я не то хотел сказать – не провалят ли меня на следующих выборах?
– А, вон оно что!
– В общем, надеюсь, что вы разубедите Кэрри.
Фиверстоун промолчал.
– Вы ему объясните, – настаивал Марк, зная, что этого делать не надо, – какое вышло недоразумение.
– Что вы, Кэрри не знаете? Он на всех парах ищет замену.
– Вот я вас и прошу.
– Меня?
– Да.
– Почему же меня?
– Ну… Господи, Фиверстоун, это же вы ему первый подсказали?
– Трудно с вами разговаривать, – заключил Фиверстоун, беря с блюдечка пончик. – Выборы через несколько месяцев. Вас могут выбрать, а могут и не выбрать. Насколько я понимаю, вы меня заранее агитируете. Что я могу вам ответить? Да ну вас совсем!
– Вы прекрасно знаете, что и речи не было о моем уходе, пока вы не подсказали Кэрри…
Фиверстоун критически осматривал пончик.
– Замучаешься с вами, – вздохнул он. – Не можете постоять за себя в колледже, так причем тут я? Я вам не нянька. А для вашего блага посоветую: ведите себя здесь поприветливей. Неровен час, станет ваша жизнь, как это: «Печальной, жалкой и недолгой».
– Недолгой? – изумился Марк. – Где я недолго буду, там или здесь?
– Я бы на вашем месте не подчеркивал этой разницы, – заметил Фиверстоун.
– Запомню, – пообещал Марк, но, встав из‑за стола, обернулся еще раз. – Это вы меня притащили. Я думал, хоть вы мне друг.
– Нет, от романтики не вылечишь! – провозгласил лорд Фиверстоун, растянул рот до самых ушей и сунул в него пончик.
Так Марк узнал, что если его выгонят отсюда, его не примут и в Брэктоне.
Джейн все эти дни бывала дома как можно меньше и читала в кровати как можно дольше. Сон стал ее врагом. Днем она ходила по городу под тем предлогом, что ищет новую «девушку»; и очень обрадовалась, когда на улице ее окликнула Камилла Деннистоун. Камилла вышла из машины и представила ей высокого темноволосого человека, своего мужа. Оба они сразу понравились Джейн. Она знала, что Деннистоун когда‑то дружил с Марком, но сама его не видела; а сейчас удивилась, как удивлялась всегда, почему нынешние друзья ее мужа настолько ничтожнее прежних. И Уодсден, и Тэйлор, с которыми он еще знался, когда она познакомилась с ним, были несравненно приятней Кэрри и Бэзби, не говоря уже о Фиверстоуне, а муж Камиллы оказался лучше всех.
– Мы как раз к вам, – щебетала Камилла. – Хотим пригласить вас в лес, устроим пикник. Нужно о многом поговорить.
– А может, зайдете ко мне? – предложила Джейн, думая, чем же их накормить. – Холодно для пикников.
– Зачем вам лишний раз мыть посуду? – удивилась Камилла. – Давайте зайдем в кафе, – предложила она мужу. – Вот, м‑сс Стэддок считает, что холодно и сыро.
– Нет, – ответил Деннистоун, – нам надо поговорить наедине (слова «нам» и «наедине» сразу установили какое‑то доброе, деловое единство). – А вообще‑то, неужели вам не нравится осенний туман в лесу? Поедим в машине, там тепло.
Джейн сказала, что никогда не слышала, чтобы к??о‑нибудь любил туман, но поехать согласилась; и все трое сели в машину.
– По этой самой причине мы поженились, – пояснил Деннистоун. – Мы оба любим погоду. Не такую или всякую, а просто погоду. Очень удобно, когда живешь в Англии.
– Как же вы приучились, м‑р Деннистоун? – спросила Джейн. – Никогда бы не смогла полюбить снег или дождь.
– Я просто не разучился, – ответил Деннистоун. – Все дети любят погоду. Вы не заметили, что в снегопад взрослые торопятся, а дети и собаки счастливы? Они‑то знают, для чего падает снег.
– Я в детстве не любила сырые дни, – не согласилась Джейн.
– Это потому, что взрослые держали вас дома, – заключила Камилла. – Когда шлепаешь по лужам – совсем другое дело.
Они свернули с шоссе и ехали по траве, под деревьями, пока не достигли полянки, окруженной с одной стороны пихтами, с другой – буками. Прямо в машине они разобрали корзинку, поели сэндвичей, выпили шерри, потом – горячего кофе и закурили, наконец.
– Ну вот!.. – промолвила Камилла.
– Что ж, – сказал Деннистоун, – начнем. Вы, конечно, знаете, от кого мы?
– От мисс Айронвуд, – ответила Джейн.
– Да, из ее дома, но хозяин у нас другой. И у нас, и у нее.
– Как это? – не поняла Джейн.
– Наш дом, или общество, или компанию возглавляет другой человек. Если я назову вам его фамилию, вы можете знать ее, можете не знать. Он много путешествовал, теперь болеет. Во время последнего путешествия он поранил ногу, и она не заживает.
– Да? – посочувствовала Джейн.
– Его сестра умерла в Индии и оставила ему много денег. Она тоже была замечательная женщина, большой друг одного индийского мистика. Он считал, что над человеческим родом нависла опасность. И перед самым концом – перед тем, как исчезнуть – он убедился в том, что она осуществится в Англии. А когда он исчез…
– Умер? – переспросила Джейн.
– Мы не знаем, – ответил Деннистоун. – Одни думают, что умер, другие – что жив. Во всяком случае, он исчез. А женщина, о которой я говорил, рассказала об этом брату, нашему хозяину. Потому она и оставила ему деньги. Он должен был собрать вокруг себя людей и ждать, чтобы вовремя предотвратить опасность.
– Не совсем так, Артур, – поправила Камилла. – Она сказала, что люди сами соберутся вокруг него.
Джейн ждала.
– Еще этот индус говорил, что в свое время к нам явится ясновидец.
– Нет, – снова вмешалась Камилла, – он предсказал, что ясновидец ОБ ЯВИТСЯ, а завладеет им или наша, или другая сторона.
– По‑видимому, – заключил Деннистоун, – это вы и есть.
– Ну, что вы, – улыбнулась Джейн. – Я боюсь таких вещей.
– Еще бы! – воскликнул Деннистоун. – Вам не повезло.
В голосе его звучало только участие, без пренебрежения.
Камилла повернулась к ней и сказала:
– Грэйс говорила мне, что вы не совсем уверены. Вы думали, это сны? А сейчас?
– Все так странно, – проговорила Джейн, – и страшно. – Они очень нравились ей, но привычный голос нашептывал: «Осторожно! Не сдавайся. Живи своей жизнью». Однако честность заставила ее сказать:
– Мне приснился еще один сон. Я видела, как убивали мистера Хинджеста.
– Ну вот, – подхватила Камилла. – Нет, вы непременно должны быть с нами! Неужели вы не понимаете? Мы все думали, где же начнется, а ваш сон дает нам ключ. То, что вы видели, случилось недалеко от Эджстоу. Мы в самом центре, что бы это ни было. Нам и рукой не двинуть без вашей помощи. Вы – наши глаза. Это было вычислено задолго до нашего рождения. Стоит ли все губить? Идите к нам.
– Не надо, Камилла, – остановил ее муж. – Пендрагону… нашему хозяину это бы не понравилось. М‑сс Стэддок должна прийти по своей воле.
– Да я же ничего не знаю! – взмолилась Джейн. – Я не хочу быть ни с вами, ни с ними, пока я сама не разобралась.
– Неужели вы не видите, – сказала Камилла, – что третьего пути нет? Не пойдете к нам – они вас используют.
Последняя фраза не была удачной. Джейн вся напряглась. Если бы это сказала менее приятная женщина, она бы вообще окаменела. Деннистоун положил свою руку на руку жены.
– Посмотри на это с точки зрения м‑сс Стэддок, – сказал он. – Она ничего о нас не знает. В том‑то и трудность, ведь мы не можем рассказать ей, пока она не решится быть с нами. Мы просим ее прыгнуть во тьму. – Он улыбнулся не без озорства, но говорил серьезно. – Что ж, люди так женятся, уходят в матросы, в монахи, пробуют новое блюдо. Ничего не поймешь, пока сам не испытаешь. – Он не понимал (или понимал?), какие чувства вызвали в ней его примеры, да и она сама не очень это поняла.
– Мне не совсем ясно, – ответила она чуть холодней, – нужно ли все это испытывать?
– Понимаете, – пояснил Деннистоун, – без доверия тут не обойдешься. Я хочу сказать, положитесь на то, нравимся ли вам мы все – и мы с Камиллой, и Грэйс, и наш хозяин.
Джейн смягчилась.
– Чего же вы от меня хотите? – спросила она.
– Прежде всего, чтобы вы повидались с ним. А потом… Чтобы вы к нам присоединились. Он настоящий хозяин, ГЛАВА. Мы добровольно выполняем его приказания. Да, и еще одно! Что скажет Марк? Мы с ним старые друзья, вы ведь знаете.
– Ну что ты! – возразила Камилла. – Стоит ли об этом сейчас?..
– Рано или поздно придется, – сказал Деннистоун.
Все немного помолчали.
– Марк? – запоздало удивилась Джейн. – Да как он узнает? А что он подумает, я и представить себе не могу. Решит, что мы сошли с ума.
– Но против он не будет? – уточнил Деннистоун. – Согласится он, чтобы вы присоединились к нам?
– Если бы он был в городе, он бы удивился, что я перееду в Сент‑Энн. Ведь это нужно?
– А разве его нет? – спросил Деннистоун.
– Он в Беллбэри, – сказала Джейн. – Кажется, его берут в ГНИИЛИ. – Она была рада, что пришлось это сообщить, но Деннистоун, если и удивился, виду не подал.
– Нет, – сказал он. – Сейчас там жить не обязательно, тем более, что вы замужем. Разве что Марк сам захочет…
– Об этом речи не может быть, – сказала Джейн и подумала: «Не знает он Марка!..»
– Во всяком случае, – продолжал Деннистоун, – сейчас я говорю не о том. Согласится ли он, чтобы вы подчинялись нашему главе, дали обеты?
– А какое ему дело? – спросила Джейн.
– Понимаете, – немного замялся Деннистоун, – у нашего главы… или у тех, кому он подчинен… старомодные взгляды. Он бы не хотел, чтобы замужняя женщина приходила, не спросившись у мужа.
– Что ж мне, спросить у Марка разрешения? – и Джейн неестественно рассмеялась. Теперь она совсем ощетинилась. Все эти разговоры о властях и обетах были ей достаточно неприятны. Но чтобы ее посылали за разрешением к мужу, как девочку, которая должна «спроситься у мамы»!.. Сейчас и Деннистоун, и Марк, и какой‑то глава, и этот индийский факир были для нее просто мужчинами, для которых женщина – все равно что ребенок или животное («король обещал отдать дочь тому, кто убьет дракона»). Она очень сердилась.
– Артур, – сказала вдруг Камилла, – смотри, что‑то горит. Это костер?
– Да, наверное.
– У меня ноги замерзли. Пойдем, посмотрим на него. Жаль, у нас нет каштанов.
– Ой, правда, пойдем!.. – поддержала ее Джейн.
Теперь на воздухе было теплее, чем в машине, пахло листьями, тихо шуршали сухие сучья. Костер оказался большим, а в сердцевине его, в куче листьев, разверзались сверкающие алые пещеры. Все трое довольно долго глядели на него и говорили о пустяках.
– Вот что, – сказала вдруг Джейн. – С вами я не буду, но сон вам расскажу… если увижу.
– Прекрасно, – согласился Деннистоун. – Большего мы и ждать не вправе. Разрешите попросить еще об одном.
– Да?
– Никому ничего не говорите.
– Ну, конечно!
Позже, в машине, Деннистоун сказал:
– Надеюсь, сны не будут вас теперь мучить. Нет, я не думаю, что их вообще не будет. Просто вы теперь знаете, что с вами все в порядке, что все это действительно происходит. Конечно, дела страшные, но читаете же вы о таких! В общем, я надеюсь, что вы их легче вынесете. Смотрите на них… скажем, как на новости, тогда – ничего.
6. ТУМАН
Всю ночь (он почти не спал) и половину дня Марк думал о том, решится ли он снова пойти к Уизеру. Наконец, он собрался с духом и направился к нему.
– Я принес эту форму, сэр, – сказал он.
– Какую форму? – спросил ИО. Сегодня он был совсем иным. Рассеянность осталась, вежливость исчезла. Казалось, что он спит или где‑то витает, но сонное раздражение, сквозившее в его взгляде, могло вот‑вот превратится в злобу. Улыбка стала иной, похожей на ухмылку, и Марку почудилось, что он сам – мышка перед кошкой. ИО туманно повел речь о том, что Марк, насколько он понял, от работы отказался, о каких‑то трудностях, трениях, опрометчивых поступках, о необходимой осторожности – институт не может взять человека, который перессорился в первую же неделю буквально со всеми – и, наконец, о каких‑то справках «у прежних коллег», подтвердивших невыгодное мнение. Он вообще сомневался, пригоден ли Марк для научной работы. Однако, измотав его вконец, он бросил ему подачку: неожиданно предложил поработать на пробу сотен за шесть в год. И Марк согласился. Более того, он даже попытался узнать, под чьим началом он будет, и должен ли он жить в Беллбэри.
Уизер ответил:
– Мне кажется, м‑р Стэддок, мы с вами уже беседовали о том, что гибкость – основа нашей институтской жизни. Пока вы не научитесь воспринимать свое дело, как э‑э‑э… служение, а не службу, я бы вам не советовал работать с нами. Вряд ли я уговорил бы совет создать специально для вас какой‑то… э‑э‑э… пост, на котором вы бы трудились от сих и до сих. Разрешите на этом закончить, м‑р Стэддок. Как я уже вам говорил, мы – единая семья, более того – единая личность. У нас речи быть не может о том, чтобы кому‑то, простите, услужить, не считаясь с другими. (Я вас не перебивал!..) Вам надо многому научиться, да, да! Мы не сработаемся с человеком, который настаивает на своих правах. Это, видите ли, он делать будет, это – не будет!.. С другой стороны, я бы очень вам советовал не лезть, если вас не просят. Почему вас трогают пересуды? Научитесь сосредоточенности. Научитесь щедрости, я бы сказал – широте. Если вы сумеете избежать и разбросанности, и крохоборства… Надеюсь, вы сами понимаете, что до сих пор не произвели приятного впечатления. Нет, м‑р Стэддок, дискутировать мы не будем. Я чрезвычайно занят. Я не трачу времени на разговоры. Всего вам доброго, м‑р Стэддок, всего доброго. Помните, что я сказал. Стараюсь для вас, как могу. До свидания.
Марку пришлось тешить себя тем, что, не будь он женат, он бы и минуты не стал терпеть этих оскорблений. Таким образом он свалил вину на Джейн и мог спокойно думать, что бы он ответил, если бы не она… а, может, еще и ответит при случае. Немного успокоившись, он пошел в столовую и увидел, что награда за послушание не заставила себя долго ждать. Фея позвала его к себе.
– Ничего еще не накатал? – спросила она.
– Нет, – ответил он. – Я ведь только сейчас твердо решил остаться. На ваши материалы я взгляну после обеда… хотя, правду сказать, еще толком не понял, чем должен здесь заниматься.
– Мы люди гибкие, сынок, – утешила его мисс Хардкастл. – И не поймешь. Ты делай, что велят, а к старику не лезь.
В течение следующих дней набирали разгон несколько событий, которые сыграли потом большую роль.
Туман, окутавший и Эджстоу, и Беллбэри, становился все плотнее. В Эджстоу говорили, что он «идет от реки», но на самом деле он покрыл всю середину Англии. Дошло до того, что можно было писать на покрытых влагой столах; работали все при свете. Никто уже не видел, что происходит на месте леса, там только клацало, лязгало, громыхало, и раздавалась грубая брань.
Оно и к лучшему, что туман скрыл непотребство, ибо за рекой творилось черт знает что. Институт все крепче стискивал город. Река, еще недавно отливавшая бутылочным, янтарным и серебряным цветом, уже не играла камышами и не ласкала красноватые корни деревьев, а текла тяжелым свинцом, который иногда украшали радужные разводы нефти, и плыли по ней клочки газет, щепки и окурки. Потом враг перешел реку – институт закупил земли на левом, восточном берегу. Представители ГНИИЛИ, лорд Фиверстоун и некто Фрост, сразу сообщили Бэзби, что русло вообще отведут, и реки в городе не будет. Сведения, конечно, были строго конфиденциальными, но пришлось немедленно уточнить, где же кончаются земли колледжа. У казначея отвисла челюсть, когда он узнал, что институт подступит к самым стенам; и он отказал. Тогда он и услышал впервые, что землю могут реквизировать; сейчас институт ее купит и хорошо заплатит, а позже он просто ее отберет, цена же будет номинальной. Отношения Бэзби с Фиверстоуном менялись во время беседы прямо на глазах. Когда Бэзби созвал совет и постарался изложить все помягче, он сам удивился, сколько ненависти хлынуло на него. Тщетно напоминал он, что те, кто его сейчас ругает, сами голосовали за продажу леса; но и они тщетно ругали его. Колледж оказался в ловушке. На сей раз он продал узкую полоску земли, самый берег, до откоса. Через двадцать четыре часа ГНИИЛИ сравнял землю: целый день рабочие таскали через реку, по доскам, какие‑то грузы, и накидали столько, что пустая глазница окна Марии Генриетты оказалась закрытой до половины.
В эти дни многие прогрессисты перешли к оппозиции; те же, кто не сдался, сплотились крепче перед лицом всеобщей враждебности. Университет воспринимал теперь брэктонцев, как единое целое, и обвинял только их за сговор с институтом. Это было несправедливо, многие в других колледжах поддерживали институт в свое время, но никто не желал теперь об этом вспоминать. Бэзби спешил поделиться тем, что вывел из беседы: «Если бы мы отказались, это бы ничего не изменило», но никто ему не верил, и ненависть к колледжу росла. Студенты не ходили на лекции его сотрудников. Бэзби и даже ни в чем неповинного ректора публично оскорбляли.
Город, не особенно любивший университетских, на сей раз волновался вместе с ними. О безобразиях под окнами Брэктона и в Лондоне, и даже в Эджстоу почти не писали, но на этом дело не кончилось. Кто‑то на кого‑то напал на улице; кто‑то с кем‑то подрался в кабаке. То и дело поступали жалобы на институтских рабочих – и попадали в корзину. Очевидцы печальных сцен с удивлением читали в «Эджстоу телеграф», что новый институт благополучно осваивается в городе и налаживает отношения с жителями. Те, кто сам ничего не видел, верили газете и говорили, что все это – сплетни. Увидев, они в свою очередь писали письма, но их не печатали.
Однако, если в стычках можно было сомневаться, толчею видели все. Мест в гостиницах не было, никто не мог выпить с другом в баре и даже протиснуться в магазин (вероятно, у пришельцев денег хватало). Перед всеми кинотеатрами стояли очереди; в автобус нельзя было влезть, тихие дома на тихих улицах тряслись от бесконечного потока грузовых машин. До сих пор в таком небольшом городке даже люди из соседних местечек казались чужими; теперь же повсюду мелькали незнакомые, довольно противные лица, стоял дикий шум, кто‑то пел, кто‑то вопил, кто‑то ругался на северном наречии, а то и по‑валлийски или по‑ирландски. «Добром это не кончится», – говорили жители, а позже: «Так и кажется, что они хотят заварухи». Никто не запомнил, когда и кем было высказано это мнение, а также другое: «Нужно больше полицейских». Только тогда газета очнулась. Появилась робкая заметка о том, что местная полиция не в силах справиться с новыми условиями.
Джейн всего этого не замечала. Она томилась. Может быть, думала она, Марк позовет ее к себе; может быть, он бросит «это» и вернется к ней; а, может, надо уехать в Сент‑Энн, к Деннистоунам. Сны продолжались, но Деннистоун оказался прав: стало легче, когда она начала воспринимать их как «новости». Иначе бы она просто не выдержала. Один сон все время повторялся: она лежит в своей кровати, а кто‑то у ее изголовья смотрит на нее и что‑то записывает. Запишет – и снова сидит тихо, словно доктор. Она изучила его лицо – пенсне, четкие черты, остроконечную бородку. Конечно, и он ее изучил, он ведь специально изучал ее. Когда это случилось в первый раз, Джейн не стала писать Деннистоунам; и во второй откладывала до ночи, надеясь, что, не получая писем, они сами приедут к ней. Ей хотелось утешения, но никак не хотелось встречаться с их хозяином и к кому‑то присоединяться.
Марк тем временем трудился над оправданием Алькасана. До сих пор он никогда не видел полицейского досье, и ему было трудно в нем разобраться. Фея об этом догадалась, как он ни притворялся, и сказала: «Сведу‑ка я тебя с капитаном». Вот так и получилось, что Марк стал работать бок о бок с ее помощником, капитаном О'Хара, красивым седым человеком, сразу сообщившим ему, что он – хорошего рода и владеет поместьем в Кэстморт. В тайнах досье Марк так и не разобрался, но признаваться в этом не хотел, и факты, в сущности, подбирал О'Хара, а сам он только писал. Стараясь как можно лучше скрыть свое неведенье, Марк не мог уже говорить о том, что он – не журналист. Писал он и впрямь хорошо (это способствовало его научной карьере гораздо больше, чем он думал), и статьи ему удавались. Печатали их там, куда бы он никогда не получил доступа под своей подписью – в газетах, которые читают миллионы людей. ??то ни говори, это было ему приятно.
Поделился он с О'Харой и денежными заботами. Когда тут платят? Он что‑то поиздержался… Бумажник сразу потерял, так и не нашел. О'Хара громко расхохотался.
– Да вы попросите у заведующего хозяйством, – посоветовал он, – и он вам их даст.
– А их потом с меня вычтут? – спросил Марк.
– Молодой человек, – пояснил капитан, – у нас тут, слава богу, с деньгами просто. Сами их делаем.
– То есть как? – удивился Марк, помолчал и добавил: – Но ведь если уйдешь, с тебя спросят…
– Какие такие уходы? – изумился О'Хара. – От нас не уходят. Один только и был. Хинджест.
К этому времени расследование установило, что «убийство совершено неизвестным лицом». Заупокойную службу служили в Брэктонской часовне.
Туман стоял тогда третий день, и был уже таким белым, что в нем гасли все звуки, кроме перестука тяжелых капель и громкой брани. Пламя свечей поднималось прямо вверх, прорезая матовый шар светящегося тумана, и только по кашлю да шарканью можно было понять, что народу в часовне много. Важный и даже подросший Кэрри, в черном костюме и черных перчатках, держался ближе к выходу, сокрушаясь, что туман не дает вовремя привезти «останки», и не без удовольствия ощущая свою ответственность. Он был незаменим на похоронах; сдержанно, горько, по‑мужски, нес он утрату, не забывая, что ему, одному из столпов колледжа, нужно держать себя в руках. Представители других университетов нередко говорили, уходя: «Да, проректор сам не свой, но держится он молодцом». Лицемерия в этом не было: Кэрри так привык соваться в жизнь своих коллег, что совался и в смерть. Будь у него аналитический ум, он бы обнаружил в себе примерно такое чувство: его влияние и дипломатичность не могут повиснуть в воздухе просто от того, что кто‑то уже не дышит.
Заиграл орган, перекрывая и негромкий кашель, и громкую брань за стеной, и даже тяжкие удары каких‑то грузов, сотрясавшие землю. Как и предполагал Кэрри, туман мешал везти гроб. Органист играл полчаса, не меньше, прежде чем у входа зашевелились, и многочисленные Хинджесты в трауре, согбенные, сельского обличья, стали пробираться на оставленные им места. Внесли булаву, появились бидли, и надзиратели, и ректор всего университета, и поющий хор, и, наконец, – самый гроб цветочным островом поплыл сквозь туман, который стал еще гуще, мокрее и холодней, когда отворили двери. Служба началась.
Служил каноник Стори. Голос его был еще красив, и красота была в том, что сам он отделен от всех остальных и верой своей, и глухотой. Ему не казалось странным, что он произносит такие слова над телом гордого старого атеиста, ибо он не подозревал о его неверии. Не подозревал он и о странной перекличке с голосами, вторившими ему извне. Глоссоп вздрагивал, когда тишину прорезал вопль: «Трам‑тарарам, куда ногу суешь, раздавлю!», но Стори невозмутимо отвечал: «Сеется в тлении, восстанет в нетлении».
– Как заеду!.. – говорил голос.
– Сеется тело душевное, – вторил Стори, – восстанет тело духовное.
«Безобразие!..» – шептал Кэрри сидевшему рядом казначею. Но кое‑кто из молодых жалел, что нет Фиверстоуна – уж он бы поразвлекся!..
Из всех наград, полученных Марком за послушание, самой лучшей оказалось право работать в библиотеке. После того злосчастного утра он быстро узнал, что доступ туда на самом деле открыт лишь избранным. Именно здесь происходили поистине важные беседы; и потому, когда как‑то вечером Фиверстоун предложил: «Пошли, выпьем в библиотеке», Марк расцвел, не обижаясь больше на их последний разговор. Если ему и стало за себя немного стыдно, то он быстро подавил столь детское, нелепое чувство.
В библиотеке обычно собирались Фиверстоун, Филострато, Фея и, что удивительно, Страйк. Марк был очень доволен, что Стил сюда не ходит. По‑видимому, он и впрямь обогнал его, или обогнул, как ему и обещали; значит, все шло по плану. Не знал он тут только профессора Фроста, молчаливого человека в пенсне. Уизер – Марк называл его теперь ИО или «старик» – бывал здесь часто, но вел себя странно: ходил из угла в угол, что‑то напевая. Подойдя на минуту к остальным, он глядел на них отеческим взором и уходил опять. Являлся он и исчезал несколько раз за вечер. С Марком он ни разу не заговорил после той унизительной беседы, и Фея давала понять, что он еще сердится, но «в свое время ??ттает». «Говорила я – не лезь!» – заключила она.
Меньше всех Марку нравился Страйк, который и не пытался подделаться под принятый здесь стиль «без дураков». Он не пил и не курил. Он сидел, молчал, потирая худой рукой худое колено, глядел печальными глазами то на одного, то на другого и не смеялся, когда все смеялись. Вдруг его что‑нибудь задевало, обычно слова о «сопротивлении реакционеров» – и он разражался яростной, обличительной речью. Как ни странно, никто не перебивал его, и никто не улыбался. Он явно был чужим, но что‑то их с ним связывало, и Марк не мог понять – что же именно. Иногда Страйк обращался к нему и говорил, к большой его растерянности, о воскресении. «Нет, молодой человек, это не исторический факт и не басня. Это – пророчество. Это случится здесь, на земле, в единственном мире. Что говорил Христос? Мертвых воскрешайте. Так мы и сделаем. Сын человеческий – человек, вставший в полный рост – может судить мир, раздавать вечную жизнь и вечную гибель. Вы увидите это сами. Здесь, теперь». Все это было в высшей степени неприятно.
На следующий день после похорон Хинджеста Марк решил пойти в библиотеку сам (до сих пор его звали Фиверстоун или Филострато). Он сильно робел, но знал, что в таких делах ложный шаг и в ту, и в другую сторону губителен. Приходилось рисковать.
Успех превзошел его ожидания. Все были здесь и, не успел он открыть дверь, как вся компания весело обернулась к нему. «Ессо!» – воскликнул Филострато. «Он‑то нам и нужен», – сказала Фея. Марку стало тепло от радости. Никогда еще огонь не горел так ярко, и запах не был таким пленительным. Его ждали. В нем нуждались.
– Сколько времени у вас уйдет на две статьи, Марк? – осведомился Фиверстоун.
– Всю ночь работать сможешь? – поинтересовалась Фея.
– Бывало, работал, – ответил Марк. – А в чем дело?
– Итак, – обратился ко всем Филострато, – вы довольны, что эти… неурядицы становятся все сильнее?
– То‑то и смешно, – хмыкнул Фиверстоун. – Наша Фея слишком хорошо работает. Овидия не читала: «…к цели стремитесь вместе».
– Мы не могли бы остановить их, даже если бы хотели, – добавил Страйк.
– О чем идет речь? – спросил Марк.
– В Эджстоу беспорядки, – ответил Фиверстоун.
– А… я, знаете, не следил. Что, серьезные?
– Будут серьезные, – заверила Фея. – В том‑то и суть. Мы намечали бунт на ту неделю, а пока что брали разгон. Но так, понимаешь, хорошо идет… Завтра‑послезавтра тарарахнет.
Марк растерянно глядел то на нее, то на Фиверстоуна. Тот просто корчился от смеха, и Марк почти машинально обыграл свое недоумение.
– Ну, это нам знать не надо, – улыбнулся он.
– Вы думаете, – ухмыльнулся Фиверстоун, – что Фея пустит все на самотек?
– Значит, мисс Хардкастл сама и действует? – спросил Марк.
– Да, да, – закивал Филострато. Глазки у него блестели, жирные щеки тряслись.
– А что? – деланно удивилась Фея. – Если в какую‑то дыру понаедет сотня тысяч рабочих…
– Особенно таких, как ваши, – вставил Фиверстоун.
– …заварухи не миновать, – закончила Фея. – Они и сами цапались, моим ребятам ничего и делать не пришлось. Но уж если ей быть, то пускай будет, когда нужно.
– Вы хотите сказать, – снова спросил Марк, – что вы это все подстроили? – Отдадим ему справедливость, это его оскорбило, и он не старался этого скрыть, но лицо и голос сами собой подделывались под общий тон.
– Зачем же так грубо! – поморщился Фиверстоун.
– Какая разница! – сказал Филострато. – Сами дела не делаются.
– Точно, – подтвердила мисс Хардкастл. – Не делаются. Это вам всякий скажет. И вот что, ребята: бунт начнется завтра или послезавтра.
– Хорошо узнавать все из первых рук! – подхватил Марк. – Заберу‑ка я оттуда жену.
– Где она живет?
– В Сэндауне.
– А… Ну, это далеко. Лучше мы с тобой подготовим статейки.
– Для чего?
– Надо объявить чрезвычайное положение, – сказал Фиверстоун. – Иначе правительство нам в жизни не даст полномочий.
– Вот именно, – поддержал Филострато. – Бескровных революций не бывает. Этот сброд не всегда готов бунтовать, приходится подстрекать их, но без шума, ст??ельбы, баррикад полномочий не получишь.
– Статьи должны выйти на следующий день после бунта, – заключила мисс Хардкастл. – Значит, старику дашь к шести утра.
– Как же я сегодня все опишу, если начнется не раньше, чем завтра? – спросил Марк.
Все расхохотались.
– Да, газетчик из вас плохой! – усмехнулся Фиверстоун. – Не может описать того, чего не было!
– Что ж, – согласился Марк, улыбаясь во весь рот, – я ведь живу не в Зазеркалье…
– Ладно, сынок, – подбодрила Фея. – Сейчас и начнем. Еще по стаканчику – и пошли наверх. В три нам дадут пожевать, кофе принесут.
Так Марку впервые предложили сделать то, что он сам считал преступным. Он не заметил, когда же именно согласился – во всяком случае, ни борьбы, ни даже распутья не было. Вероятно, кто‑то где‑то и переходит Рубикон, но у него все случилось само собой, среди смеха, шуток и той свойской болтовни («мы‑то друг друга понимаем»), которая чаще всех других земных сил толкает человека на дурное дело, когда сам он еще не стал особенно плохим. Через несколько минут они с Феей шли наверх. На пути им попался Коссер, деловито разговаривающий с кем‑то из своего отдела, и Марк заметил краем глаза, что тот на них глядит. И подумать только, что еще недавно он боялся Коссера!
– А кто разбудит ИО в шесть часов? – поинтересовался Марк.
– Сам проснется, – ответила Фея. – Когда‑то он спит, но когда – не знаю.
В четыре часа утра Марк перечитывал у Феи в кабинете две последние статьи – для самой почтенной газеты и для самой массовой. Только это в ночных трудах и льстило его писательскому тщеславию. Первая половина ночи ушла на составление самих новостей, передовицы он оставил под конец, и чернила еще не просохли. Первая статья была такой:
«Несмотря на то, что рано еще основательно судить о вчерашних событиях в Эджстоу, из первых сообщений (их мы печатаем отдельно) мы вправе сделать два вывода, которые вряд ли смогут поколебать дальнейшее течение событий. Во‑первых, эти события наносят удар по благим упованиям тех, кто еще верит в безоблачный характер нашей цивилизации. Конечно, нельзя без трений и трудностей превратить небольшой университетский город в исследовательский центр национального значения. Но мы, англичане, всегда справлялись с трудностями по‑своему, миролюбиво, даже весело, и всегда были готовы принести и большие жертвы, чем те, которые требовались на сей раз, когда наши привычки и чувства столкнулись с весьма незначительными помехами. Приятно отметить, что нет ни малейших указаний на то, чтобы ГНИИЛИ в какой бы то ни было степени преступил свои права или погрешил против доброжелательности и дружелюбия, которых от него ждали. Теперь сравнительно ясно, что поводом к беспорядкам было частное столкновение между одним из институтских рабочих и каким‑то местным маловером. Но, как давно сказал Аристотель, повод ничтожен, но причина глубока. Трудно сомневаться в том, что незначительное, хотя и прискорбное происшествие возникло – вольно ли, невольно – не без связи с косностью.
Как это ни печально, но приходится признать, что закоренелое недоверие и давнюю недоброжелательность к той деловитости и четкости, которую зовут «бюрократизмом», так легко оживить хотя бы на короткое время. С другой стороны, мы яснее видим теперь именно те недуги нашей культуры, которые и призван исцелить наш Институт. В том, что это ему удастся, мы не сомневаемся. Вся наша нация поддержит те «мирные усилия», о которых недавно так прекрасно говорил м‑р Джайлс, а сопротивление плохо осведомленных кругов будет мягко, но решительно сломлено.
И второе: многие восприняли с недоверием мысль о том, что Институт нуждается в собственной полиции. Наши читатели вспомнят, что мы этого предубеждения не разделяли, но и не оспаривали. Даже ложных и особенно рьяных свободолюбцев надобно чтить, как чтим мы необоснованную тревогу любящей матери. Однако мы всегда считали, что уже невозможно перепоручить всю охрану порядка небольшому кругу лиц, чья прямая задача – борьба с преступлениями! Мы не должны забывать о том, что в некоторых странах это привело к серьезным нарушениям свободы и справедливости, ибо полиция стала своего рода государством в государстве. Так называемая «полиция» ГНИИЛИ (было бы уместней назвать ее «охранно‑санитарной службой») знаменует истинно английское решение вопро??а. Трудно определить строго логически, в каком отношении находится она к полиции как таковой, но мы, англичане, издавна не в ладах с логикой. Вышеупомянутая служба ни в коей мере не связана с политикой; если же ей доведется прийти в соприкосновение с правосудием, она выступит в роли спасительницы, перемещая преступника из сферы наказания в сферу лечения. Последние предубеждения развеяны событиями в Эджстоу, ибо национальная полиция просто не справилась бы с ними без помощи институтской службы. Как сказал сегодня утром нашему корреспонденту один из крупных деятелей полиции: «Без них все повернулось бы иначе». И если теперь, в свете этих событий, правительство сочтет необходимым на некоторое время препоручить всю округу заботам институтской «полиции», британский народ, по сути своей склонный к трезвому взгляду на вещи, вряд ли станет хотя бы в малой мере противиться этому. Особенно обязаны мы служащим в «полиции» женщинам, проявившим то мужество и то здравомыслие, которых мы и ждем от истинных англичанок. В Лондоне ходят слухи о каких‑то пулеметах и сотнях жертв, но этому нет ни малейших подтверждений. По всей вероятности, когда все детали будут уточнены, окажется (как выразился по другому поводу наш премьер‑министр), что, «если кровь и текла, то из разбитого носа».
Вторая статья была такой:
«Что творится в Эджстоу?
Вот на какой вопрос ждет ответа простой англичанин. Институт, который там разместился – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Институт, то есть, и ваш, и мой. Мы не ученые, и нам не понять, о чем там думают профессора. Но мы знаем, чего от них ждут каждый мужчина и каждая женщина. Мы ждем от них, что они победят рак, покончат с безработицей, решат жилищный вопрос. Мы ждем, что они помогут нашим детям жить лучше и знать больше, чем мы, а всем нам – идти вперед и полнее пользоваться тем, что Господь нам даровал. ГНИИЛИ – орудие народа. Он поможет осуществить все, за что мы боролись.
А что же тогда творится в Эджстоу?
Вы думаете, все пошло от того, что Смит или Браун не хотел уступить Институту лавку или дом? Нет, Смит или Браун знают, что им лучше. Они знают, что при Институте будет больше магазинов, больше развлечений, больше народу, привольная жизнь. Ответ один: беспорядки ПОДСТРОИЛИ!
Удивляйтесь‑не удивляйтесь, а это правда.
И я снова спрошу: что же творится в Эджстоу?
Там есть предатели. Кто бы они ни были, я не боюсь это сказать. Может быть, это так называемые христиане. Может быть, это те, кого ущемили материально. Может быть, это замшелые профессора из университета. Может быть, это евреи. Может быть, это судейские. Мне все равно, кто это, но одно я им скажу: берегитесь! Английский народ этого не потерпит. Мы не дадим ставить палки в колеса Институту.
Что же надо сделать?
А вот что: пусть город охраняет институтская полиция. Если кто из вас бывал в тех местах, вы знаете не хуже меня: в этом сонном царстве пяти‑шести полицейским только и было забот, что свистеть мотоциклистам, когда у них погас фонарик. Куда им, беднягам, управиться с ПОДСТРОЕННЫМ БУНТОМ! Прошлую ночь институтская полиция себя показала. Вот что я скажу: молодец эта мисс Хардкастл, и ее ребята, и ее девицы! Так что, без всякой волокиты, дадим им размахнуться!
И вот вам хороший совет: услышите что их ругают, – объясните, что к чему! Сравнят их с гестапо – что ж, мы и такое слыхали. Заведут про свободу – помните, для кого она: для мракобесов, для богачей, для старых сплетниц. А тому, кто распускает всякие слухи, передайте от меня, что Институт как‑нибудь сам постоит за демократию. А кому не нравится – скатертью дорога!
Не забывайте об Эджстоу!»
Можно было бы ожидать, что повосторгавшись собой в пылу творчества, Марк очнется и ужаснется, читая готовые статьи. К несчастью, все было почти наоборот. Чем дольше он работал, тем больше втягивался.
Совсем он успокоился, перепечатывая это на машинке. Когда работа обретает убористый, красивый вид, не хочется, чтобы она шла в корзину. Чем чаще он перечитывал, тем больше восхищался. В конце концов, это же игра, шутка, стилизация. Он видел себя самого, старым, богатым, знаменитым, может быть – и титулованным, когда вся эта чушь давно уйдет в прошлое, и он будет рассказывать о ней молодым: «Вот вы не поверите, а поначалу бывало всякое. Помню…» К тому же, до сих пор он печатался только в ученых трудах, которые читали его собратья, и у него кружилась голова от мысли о своем влиянии – издатели ждут, вся Англия читает, столько зависит от его слов. Он просто дрожал, представляя, какая машина попала в его распоряжение. Не так давно он ликовал, что его приняли избранники Брэктона. Но что они перед этим? Нет, дело было не в самих статьях. Он писал их левой ногой (мысль эта ему очень помогала), но ведь не напиши их он – написал бы кто‑нибудь еще. А мальчик, живший в нем, нашептывал, как это здорово, как это по‑мужски: сидишь тут, пьешь, но не напиваешься, пишешь (левой ногой) статьи для больших газет, газеты ждут, самый избранный круг института от тебя зависит, и больше никто не сможет отмахнуться от тебя.
Джейн протянула в темноте руку, но не нащупала ночного столика. Тогда она поняла, что не лежит, а стоит. Было очень темно и холодно. Пальцы ее ощутили шероховатую поверхность камня. Воздух был странный, неживой, тюремный какой‑то. Далеко, наверное, над ней, раздавались какие‑то звуки, но что‑то приглушало их, словно они шли к ней сквозь землю. Значит, случилось самое страшное: упала бомба, дом обрушился. Тут она вспомнила, что войны нет; вспомнила она и многое другое – что она замужем за Марком… и видела Алькасана в камере… и встретила Камиллу. Тогда она обрадовалась: «это ведь сон, один из снов, он кончится, бояться нечего».
Места здесь было немного. Рука утыкалась в грубую стену, нога сразу обо что‑то ударилась. Джейн споткнулась и упала на пол. Она различала невысокий помост. Что же на нем? Можно ли узнать? Она осторожно протянула руку, и чуть не закричала, потому что почувствовала чью‑то ногу. Нога была босая и холодная, должно быть мертвая. Исследовать дальше она не могла, но все же исследовала. Тело было завернуто в грубую ткань, неровную, как будто вышитую, очень толстую. И человек очень большой, подумала Джейн, пытаясь дотянуться до головы. На груди ткань менялась, словно сверху лежала мохнатая шкура, но потом она поняла, что это просто длинная борода. Тронуть лицо она решилась не сразу, страшась, что он пошевелится или заговорит, и напомнила себе, что это – сон. Ей казалось, что все происходит очень давно, что она проникла в подземелье прошлого, и она очень хотела, чтобы ее отсюда поскорее выпустили. При этой мысли она увидела, что к ней спускается другой человек, тоже бородатый, но удивительно юный, сильный и сияющий. Все стало путаться. Джейн показалось почему‑то, что она должна сделать реверанс, и она с облегчением вспомнила, что так и не выучилась этому на танцевальных уроках. Тут она проснулась.
В город она пошла сразу после завтрака, на поиски «приходящей». На Маркет‑стрит случилось то, что побудило ее ехать в Сент‑Энн немедленно, поездом на 10:23. У тротуара стояла большая машина. Когда она поравнялась с ней, из магазина вышел человек, пересек ей дорогу и заговорил с шофером. Даже в тумане она рассмотрела его, очень уж он был близко. Она узнала бы его везде: ни лицо Марка, ни собственное лицо в зеркале не было ей теперь так знакомо, как эти восковые черты, пенсне и бородка. Ей не пришлось думать о том, как быть. Тело само направилось к станции. Она боялась до тошноты, но гнал ее не страх. Она просто не могла находиться поблизости от этого человека. Ее трясло при одной мысли о том, что она могла до него дотронуться.
В поезде было тепло и пусто, и ей стало легче, когда она села на скамью. Медленное движение сквозь туман почти укачало ее. О Сент‑Энн она не вспоминала, пока не приехала; даже взбираясь на холм, она думала не о том, что ей делать, что сказать, а о Камилле и о м‑сс Димбл. В душе ее всплывали прежние, детские ощущения. Ей хотелось к хорошим людям, туда, где нет плохих, и это разделение казалось теперь более важным, чем все другие.
Она очнулась, когда заметила, что здесь, на дороге, слишком светло, намного светлей, чем в городе. Неужели деревенский туман реже городского? Воздух был уже не серым, а ясно‑белым; еще дальше она увидела что‑то синее наверху и тени деревьев внизу. Потом ей открылось безбрежное небо и бледно‑золотое солнце. Оглянувшись, она увидела, что стоит над туманом, на зеленом островке. Он был не единственный – вон тот, к западу, этот холм над Сэндауном, где они с Деннистоунами устроили пикник, а к северу – большой – это почти гора, с которой и течет их речка. Джейн глубоко вдохнула воздух. Ее поразило, что над туманом – так много земли. Внизу все эти дни люди жили, словно в каморке, и она забыла, как велико небо и как далек горизонт.
7. ПЕНДРАГОН
Еще не дойдя до дверцы в стене, Джейн встретила Деннистоуна, и он провел ее в усадьбу через главные ворота, которые выходили на ту же дорогу, но подальше. По пути она все ему рассказала. С ним она ощущала то, что знакомо многим мужьям и женам: она никогда не вышла бы за него замуж, но он был ей намного понятней, чем Марк. Входя в дом, она встретила свою бывшую служанку.
– Ой, подумать только, это м‑сс Стэддок! – воскликнула м‑сс Мэггс.
– Да, Айви, – подтвердил Деннистоун, – и с важными вестями. Дело сдвинулось. Мы идем прямо к Грэйс. Макфи дома?
– Он в саду, – сказала м‑сс Мэггс. – А доктор Димбл на работе. А Камилла на кухне. Позвать ее вам?
– Позовите, пожалуйста. Вот только бы мистер Бультитьюд не вылез…
– Ничего, я его не пущу. Чаю хотите, м‑сс Стэддок? Все же поездом ехали…
Через несколько минут Джейн снова сидела перед мисс Айронвуд. И хозяйка, и чета Деннистоунов глядели на нее, как экзаменаторы. Айви Мэггс принесла чай и уселась рядом с ними, словно четвертый член комиссии.
– Так вот… – начала Камилла. Глаза ее горели не любопытством и не возбуждением, а истинной духовной жаждой.
Джейн огляделась.
– Айви нам не помешает, – проронила мисс Айронвуд. – Она – человек свой.
Мисс Айронвуд немного помолчала.
– В письме от десятого числа, – продолжала она, – вы пишете, что вам приснился человек с остроконечной бородкой. Вы видели, как он сидит и что‑то пишет в вашей комнате. На самом деле его там не было. Во всяком случае, наш хозяин считает, что он там быть не мог. Но за вами он действительно наблюдал.
– Не расскажете ли вы всем, – попросил Деннистоун, – то, что говорили мне?
Джейн рассказала о трупе (если это был труп) и о сегодняшней встрече с человеком из сна. Все явно заволновались.
– Нет, подумайте! – воскликнула Айви Мэггс.
– Значит, мы были правы насчет леса! – подхватила Камилла.
– Да, это их дело, – подтвердил ее муж. – Но где же тогда Алькасан?
– Простите, – спокойно произнесла мисс Айронвуд, и все сразу замолчали. – Сейчас мы ничего обсуждать не будем. М‑сс Стэддок еще не с нами.
– Мне ничего не объяснят? – изумилась Джейн.
– Моя дорогая, – сказала мисс Айронвуд, – не сердитесь на нас. Мы не можем, да мы и не вправе что‑нибудь объяснять вам. Разрешите задать вам еще два вопроса?
– Пожалуйста, – согласилась Джейн чуть‑чуть суховато. При Деннистоунах ей хотелось вести себя как можно лучше.
Мисс Айронвуд выдвинула ящик и, пока она рылась там, все молчали. Потом она протянула Джейн фотографию.
– Вы знаете этого человека? – спросила она.
– Да, – прошептала Джейн. – Его я видела во сне и встретила сегодня утром.
Под фотографией было написано «Огастес Фрост» и еще что‑то.
– И второе, – продолжила мисс Айронвуд. – Вы готовы видеть хозяина?
– Да… – нетвердо ответила Джейн.
– Артур, – обратилась мисс Айронвуд, – пойдите к нему, расскажите все и спросите, может ли он сейчас принять миссис Стэддок.
Деннистоун встал.
– А мы пока что, – добавила мисс Айронвуд, – поговорим наедине.
Тут встали все остальные и вышли вместе с Деннистоуном. Большая кошка, которую Джейн до сих пор не заметила, прыгнула на кресло, где сидела Айви Мэггс.
– Я уверена, – сказала мисс Айронвуд, – что хозяин вас примет.
Джейн не ответила.
– Тогда, – продолжала хозяйка, – вам и придется сделать выбор.
Джейн кашлянула, чтобы хоть как‑то снять ненужную торжественность, воцарившуюся в комнате, когда они остались вдвоем.
– Кроме того, – говорила мисс Айронвуд, – вам нужно узнать кое‑что о нашем хозяине сейчас. До встречи с ним. Он покажется вам молодым, м‑сс Стэддок, чуть ли не моложе вас. Но это не так. Ему под пятьдесят. Он очень много пережил, был там, где никто не был, и видел тех, кого не видел никто.
– Как интересно… – без особого энтузиазма сказала Джейн.
– И наконец, – заключила хозяйка, – помните, он часто мучается болью. Что бы вы ни решили, не огорчайте его.
– Если он болен… – начала Джейн, но мисс Айронвуд ее перебила.
– Простите меня, я врач, единственный врач в доме. Я отвечаю за его здоровье. Если вы не возражаете, я вас к нему провожу.
Она придержала дверь, пропуская го??тью, и по узкому коридору они дошли до старинной красивой лестницы. Дом оказался очень большим, тихим и теплым. После всех этих пропитанных туманом дней золотой осенний свет особенно весело сверкал на коврах и стенах. На втором этаже, вернее – еще на шесть ступенек выше, на квадратной площадке, их ждала Камилла. За ее спиной была дверь.
– Он ждет, – сказала она.
– Как ему, больно? – спросила мисс Айронвуд.
– То хуже, то отпустит. В общем, ничего.
Когда мисс Айронвуд подняла руку, чтобы постучаться, Джейн подумала: «Берегись! Не дай себя обвести! Не успеешь оглянуться, как станешь одной из его поклонниц!..» Додумывала она это, уже войдя в комнату. Там было очень светло, словно стены состояли из одних окон, и очень тепло – в камине горел огонь. Все было или голубое, или синее. Джейн вздрогнула, увидев, что мисс Айронвуд присела в реверансе, и быстро сказала себе: «Не буду. Не могу!» Действительно, она давно разучилась.
– Джейн Стэддок пришла, сэр – объявила мисс Айронвуд. Джейн подняла глаза, и мир ее рухнул.
На тахте лежал очень молодой человек с забинтованной ногой. По длинному подоконнику ходила ручная галка. Слабые отблески огня и яркие отблески солнца играли на потолке, но казалось, что все они золотят волосы и бороду раненого человека.
Конечно, молодым он не был. Он просто был очень сильным. Она думала увидеть калеку, а сейчас ей казалось, что плечи его вынесли бы тяжесть всего этого дома. Мисс Айронвуд стала маленькой, старой, бесцветной, и легкой, как одуванчик.
Тахта находилась на помосте, куда вели ступеньки. Сзади мерцало что‑то синее (потом Джейн разглядела, что это просто ковер), и казалось, что ты – в тронном зале. Она бы не поверила, если бы ей об этом рассказали, но за окном не было ни деревьев, ни домов, ни холмов, словно она и этот человек – на башне, высоко надо всеми.
Боль иногда искажала его лицо, но спокойствие ее поглощало, как поглощает молнию ночная тьма. «Нет, он совсем не молодой, – подумала Джейн. – И не старый». Вздрогнув от страха, она поняла, что у него вообще нет возраста. Раньше ей казалось, что борода идет только седым людям; но она просто забыла о короле Артуре и царе Соломоне, которых так любила в детстве. При имени «Соломон» на нее хлынуло все, что она знала о сверкающем, словно солнце, мудреце, возлюбленном и волшебнике. Впервые за много лет она ощутила то, что связано со словами «король» и «царь» – силу, поклонение, святость, милость и власть. Она забыла, что немножко сердится на хозяйку и сильно сердится на Марка; забыла свой народ и дом отца своего. Конечно, только на минуту – она сразу пришла в себя, стала нормальной, светской, и устыдилась, что так нагло смотрит на незнакомого человека. Но мир ее рухнул, и она знала это. Теперь могло случиться все, что угодно.
– Спасибо, Грэйс, – произнес незнакомый человек, и голос его тоже походил на золото и солнце. Ведь золото не только прекрасно, но и весомо; солнце не только играет на уютных английских стенах, – оно порождает и убивает жизнь.
– Простите, что не встаю, миссис Стэддок, – обратился он к ней. – У меня болит нога.
И Джейн услышала, что отвечает мягко и чисто, как мисс Айронвуд:
– Не беспокойтесь, сэр.
Она хотела беззаботно поздороваться, чтобы замять свою неловкость, но сказала почему‑то эти слова. Потом она поняла, что сидит у тахты. Она дрожала, ее почти трясло, она надеялась, что не разрыдается и сможет говорить, и не сделает какой‑нибудь глупости. Мир ее рухнул, и случиться могло все.
– Мне остаться, сэр? – спросила мисс Айронвуд.
– Нет, Грэйс, – ответил златобородый. – Не надо. Спасибо.
«Вот оно, – думала Джейн, – сейчас, сейчас, сейчас…»
Он мог спросить что угодно, и она могла что угодно сделать, только сопротивляться она не могла и знала, что не может.
Несколько минут она не понимала, что он говорит – не от ярости, а от предельной сосредоточенности. Каждая его интонация, каждый жест, каждый взгляд поражали ее (нет, как могла она подумать, что он молод?), и она поняла, что совсем оглохла, только когда он умолк, ожидая ответа.
– Простите, – выговорила она, надеясь, что не очень краснеет.
– Я благодарил вас, – повторил он, – за великую помощь. Мы понимали, что здесь, в Англии, произойдет одно из самых опасных покушений на род человеческий. Мы догадывались, что институт с этим связан. Но мы знали не все. Мы не знали, что он играет главную роль. Вот почему ваши вести так важны. Но они же ставят нас перед трудностью. Она связана с вами. Мы надеялись, что вы к нам присоединитесь… станете одной из нас…
– А разве нельзя? – изумилась Джейн.
– Трудно, – ответил он. – Ваш муж – в Беллбэри.
У Джейн чуть не вырвалось: «Он в опасности?», но поняла, что беспокоится не за Марка, и вопрос этот будет лживым. Прежде она не знала таких укоров совести.
– Вы не можете мне доверять? – спросила она.
– Ни я, ни вы, ни ваш муж, не сможем доверять друг другу.
Джейн рассердилась, но не на него, а на Марка.
– Я сделаю то, что сочту правильным, – заявила она. – Если Марк… если мой муж неправ, я не обязана с ним соглашаться.
– Вам так важно, что ПРАВИЛЬНО? – спросил хозяин дома, и она снова покраснела, осознав, что это не было для нее особенно важно.
– Конечно, – продолжал он, – дела могут повернуться так, что вы получите право прийти к нам без его ведома и даже против его воли. Это зависит от того, как велика опасность, – и для всех нас, и для вас лично.
– Я думала, опасней некуда, – сказала она.
– Не знаю, – улыбнулся он. – Я не вправе идти на крайние средства, пока не уверен, что другого выхода нет. Иначе мы стали бы, как они – делали бы все, что угодно, думая, что когда‑то кому‑то это принесет какую‑то пользу.
– Кому же повредит, если я буду здесь? – удивилась Джейн.
Хозяин не ответил прямо.
– Наверное, вам нужно уйти, – сказал он. – Во всяком случае, сейчас. Скоро вы увидите мужа. Попробуйте еще раз вырвать его из ГНИИЛИ.
– Как же я смогу? – спросила Джейн. – Что я ему скажу? Он только посмеется. Он не поверит всему этому, про опасность, нависшую над человеческим родом. – И сразу добавила: – Вы думаете, я хитрю? Нет, скажите, хитрю я?
– Ничуть, – произнес он. – А говорить ему ничего не надо. Ни обо мне, ни о ком‑нибудь из нас. Наша жизнь – в ваших руках. Просто попробуйте убедить его. Вы же все‑таки его жена.
– Марк никогда меня не слушает, – вздохнула Джейн. Они оба думали так друг о друге.
– Может быть, – сказал хозяин, – вы никогда толком не просили. Разве вам не хочется спасти его, как и себя?
Этого вопроса Джейн не слышала. Теперь, когда остаться было нельзя, она совсем упала духом.
Не внемля внутреннему комментатору, который уже не раз вмешивался в беседу, показывая ей в новом свете ее слова и поступки, она быстро заговорила:
– Не прогоняйте меня. Дома я все время одна, я вижу страшные сны. Мы с Марком вообще редко бываем вместе. Мне очень плохо. Ему все равно, здесь я или нет. Он бы только посмеялся. Зачем портить мне всю жизнь из‑за того, что он связался с мерзавцами? Неужели вы думаете, что замужняя женщина не принадлежит самой себе?
– А сейчас вам плохо? – спросил хозяин, и Джейн ответила было «да», но вдруг увидела правду. Не думая о том, что подумает о ней он, она сказала:
– Нет, – и только потом прибавила: – Но мне будет хуже, чем раньше, если я вернусь домой.
– Будет?
– Не знаю. Нет, не будет. – Она ощущала лишь мир и радость, ей было так удобно в кресле, цвета так сияли, комната была так красива. Вдруг она подумала: «Сейчас это кончится, сейчас он позовет ее и меня прогонят». Ей казалось, что вся ее жизнь зависит от того, что она скажет.
– Неужели это нужно? – начала она. – Я смотрю на брак иначе. Я не понимаю, почему все зависит от мужа… он ведь не разбирается в таких делах.
– Дитя мое, – произнес хозяин, – речь идет не о том, как вы или я смотрим на брак, а о том, как смотрят на него мои повелители.
– Мне говорили, что они старомодны…
– Это была шутка. Они не старомодны, хотя очень и очень стары.
– А им неважно, как мы с Марком понимаем брак?
– Да, неважно, – подтвердил хозяин со странной улыбкой. – Они вас не спросят.
– Им все равно, удался наш брак или нет? Люблю ли я мужа?
Собственно, Джейн хотела спросить не это, во всяком случае – не так жалобно; и она прибавила, сердясь на себя и пугаясь его: – Наверное, вы скажете, что я не должна была вам это говорить.
– Дитя мое, – объяснял ей он, – вы говорите мне это с тех самых пор, как мы упомянули вашего мужа.
– Так что ж, это неважно? – снова спросила она.
– Мне кажется, – отвечал он, – это зависит от того, как он утратил вашу любовь.
Джейн молчала. Правды она сказать не могла, да и сама ее не знала, но в душе ее вдруг возник стыд за себя и жалость к мужу.
– Виноват не только он, – проговорила она. – Наверное, нам не надо было жениться.
Теперь не отвечал хозяин.
– Что бы вы… что бы эти ваши повелители сказали мне? – спросила Джейн.
– Вы действительно хотите знать? – в свою очередь переспросил хозяин.
– Очень хочу.
– Они сказали бы так: «многие грешат против послушания, ибо любят мало, а вы утратили любовь, греша против послушания».
Раньше она рассердилась бы или рассмеялась, но сейчас слово «послушание» окутало ее, как странный, опасный, соблазнительный запах. Однако, Марк тут был ни при чем.
– Прекратите! – негромко крикнул хозяин.
Она растерянно посмотрела на него. Запах постепенно улетучился.
– Так вы говорили, дитя мое?.. – продолжил он, как ни в чем не бывало.
– Я говорила, что любовь – это равенство, свободный союз…
– Ах, равенство! – подхватил хозяин. – Мы как‑нибудь об этом поговорим. Конечно, все мы, падшие люди, должны быть равно ограждены от себялюбия собратьев. Точно так же все мы вынуждены прикрывать наготу, но наше тело ждет того славного дня, когда ему не нужна будет одежда. Равенство – еще не самое главное.
– А я думала, самое, – уперлась Джейн. – Ведь люди, в сущности, равны.
– Вы ошибаетесь, – серьезно произнес он. – Именно по сути своей они не равны. Они равны перед законом, и это хорошо. Равенство охраняет их, но не создает. Это – лекарство, а не пища.
– Но ведь в браке…
– Никакого равенства нет, – пояснил хозяин. – Когда люди друг в друга влюблены, они о нем и не думают. Не думают и потом. Что общего у брака со свободным союзом? Те, кто вместе радуются чему‑то, или страдают от чего‑то – союзники; те, кто радуются друг другу и страдают друг от друга – нет. Разве вы не знаете, как стыдлива дружба? Друг не любуется своим другом, ему было бы стыдно.
– А я думала… – начала было Джейн и остановилась.
– Знаю, – сказал хозяин. – Вы не виноваты. Вас не предупредили. Никто никогда не говорил вам, что послушание и смирение необходимы в супружеской любви. Именно в ней нет равенства. Что же до вас, идите домой. Можете к нам вернуться. А пока поговорите с мужем, а я поговорю с теми, кому подвластен.
– Когда же они к вам придут?
– Они приходят, когда хотят. Но мы с вами слишком торжественно беседуем. Лучше я покажу вам умилительную и смешную сторону послушания. Вы не боитесь мышей?
– Кого? – удивилась Джейн.
– Мышей.
– Нет, – растерянно ответила она.
Он позвонил в колокольчик, и почти сразу явилась Айви Мэггс.
– Принесите мне завтрак, пожалуйста, – сказал он. – Вас покормят внизу, дитя мое, и посущественней. Но можете посмотреть, как я ем. Я покажу вам одну из радостей нашего дома.
Айви Мэггс вернулась с подносом, на котором были бокал, маленькая бутылка и хлебец. Поставив поднос на столик у тахты, она ушла.
– Видите, – показал хозяин. – Но это очень вкусно, – и он отломил себе хлеба, налил вина и смахнул крошки на пол. Теперь сидите тихо, Джейн.
Он вынул из кармана серебряный свисток и извлек из него тихий звук. Джейн сидела не шевелясь, пока комната наполнялась весомым молчанием; потом она услышала шорох и увидела, что три толстые мыши прокладывают путь сквозь ворс ковра. Когда они подошли ближе, она различила блеск их глазок и даже трепетанье носиков. Хотя она сказала, что не боится мышей, ей стало неприятно, и она с трудом заставила себя сидеть все так же тихо. Именно поэтому она и увидела мышь, как она есть – не какое‑то мельканье, а маленького зверька, похожего на крохотного кенгуру, с нежными ручками и прозрачными ушками. Все три сидели на задних лапах, бесшумно подбирая крошки, а когда съели, что могли, хозяин свистнул снова, и они, взмахнув хвостами, юркнули за ящик для угля.
– Вот, – сказал хозяин, весело глядя на Джейн («нет, как же я могла подумать, что он старый!..»). – Все очень просто: людям надо убирать крошки, мыши рады убрать их. Тут и ссориться не из‑за чего. Видите – послушание – скорее танец, чем палка, особенно, когда речь идет о мужчине и женщине – то он ее слушается, то она его.
– Какие же мы для них великаны!.. – невпопад прошептала Джейн, думая о мышах; но вдруг поняла, что уже думает именно о великанах и даже ощущает их рядом. Какие‑то огромные существа приближались к ней. Ей стало трудно дышать, ее покинули и силы, и чувства. В поисках защиты она взглянула на хозяина и увидела, что он такой же маленький, как она. Вся комната была маленькой, словно мышиная норка, и потолок как‑то накренился, будто надвигающаяся громада сдвинула его. Сквозь страх Джейн услышала заботливый голос.
– Скорее! – произнес он. – Уходите! Здесь не место таким, как мы, но я привык. Ступайте домой!
Когда Джейн покинула деревушку на холме и спустилась к станции, она увидела, что туман рассасывается и там. В нем открылись окна, и когда поезд тронулся, он то и дело нырял в озера предвечернего света.
В дороге ее душа так расслоилась, что можно было насчитать целых три или четыре Джейн.
Первая Джейн вспомнила каждое слово хозяина и каждый его взгляд. Небольшой набор современных идей, составлявший до сих пор выделенную ей долю мудрости, смыло потоком чувств, которых она не понимала и не могла сдержать. Вторая Джейн пыталась сдержать его и на первую глядела косо, ибо всегда недолюбливала таких женщин. Однажды, выйдя из кино, она слышала, как молоденькая продавщица говорит подружке: «Если бы он на меня так посмотрел, я бы пошла за ним куда угодно». Была ли права вторая Джейн, приравнивая к ней Джейн первую, мы не знаем; но она приравнивала и вынести этого не могла. Нет, сдаться, как дуре, при первом же слове какого‑то чужого человека, забыть о своем достоинстве (и самой того не заметить), о своей свободе, которую она так ценила и даже считала главной для взрослой, уважающей себя умной женщины… это попросту низко, пошло, вульгарно.
Третья Джейн была совсем новой. Первая, с грехом пополам, существовала в детстве; вторую Джейн считала «своим истинным, нормальным я». О третьей она и не подозревала. Из неведомых источников благодати или наследственности ей являлись мысли, которые она до сих пор никак не связывала с реальной жизнью. Если бы они подсказывали ей, что нельзя так относиться к чужому мужчине, она бы еще поняла; но они, наоборот, обвиняли ее в том, что она не относится так к своему мужу. То, что она испытала недавно – жалость к Марку, вину перед ним – не покидало ее. В тот самый час, когда душа ее была полна другим мужчиной, из неведомых глубин поднималось решение дать Марку много больше, чем прежде. Ей даже казалось, что она, тем самым, даст что‑то «ему». Все это было так странно, что чувства ее смешались, и верх то и дело брала четвертая Джейн, не прилагая к тому никаких усилий и не делая выбора.
Четвертая Джейн просто радовалась. Три других не могли с нею сладить, ибо она вошла в сферу Юпитера, туда, где свет и песня, и пир, здоровье и жизнь, сиянье и пышность, веселье и великолепие. Она едва помнила странные чувства, предшествовавшие ее уходу, и радовалась, что ушла. Подумав об этом, она снова вспомнила о «нем». Все возвращало ее к этой мысли, а значит – к радости. Глядя в окошко на прямые лучи солнца, пронзавшие вершины деревьев, она сравнила их со звуками трубы. Взгляд ее останавливался на кроликах и коровах, и сердце трепетало от праздничной нежности к ним. Ее восхитили несколько фраз старого попутчика, и она оценила острую и светлую мудрость, крепкую, как лесной орех, и английскую, как меловой холм.
С удивлением подумала она о том, что музыка очень давно ушла из ее жизни, и решила сегодня же вечером послушать Баха. Или нет, она почитает на ночь сонеты Шекспира. Даже голод и жажда радовали ее, и она думала, что сделает дома очень много гренок. Радовала ее и собственная красота – без всякого тщеславия она ощущала (верно ли, неверно), что та распускается волшебной розой. Поэтому незачем удивляться, что когда ее попутчик вышел в Кьюр Харди, она встала и посмотрела в зеркало на стене. Действительно, выглядела она хорошо, на удивление хорошо, но и в этой мысли почти не было тщеславия. Краса ее цвела для других. Она цвела для него. Он владел ею так безраздельно, что мог уступать другим, и это было выше, полнее, радостней, чем если бы он оставил ее себе.
Когда поезд прибыл в Эджстоу, Джейн решила, что не пойдет на автобус и с удовольствием прогуляется до Сэндауна. Но что же это? Платформа, всегда пустая в это время, киш??ла народом, как лондонский вокзал в пятницу. Она едва протиснулась сквозь толпу. Люди двигались во все стороны, грубили, сердились, толкались. «Садись обратно в поезд!» – орал кто‑то. «Гони отсюда, если не едешь!» – ревел другой. «Какого черта?» – рычал третий над самым ее ухом, потом запричитала женщина: «Ой, Господи, Господи, что творится!..» С улиц несся страшный шум, как с футбольного стадиона. Было светлее, чем обычно.
Через несколько часов, перепуганная и усталая до смерти, Джейн шла по незнакомой улочке – под охраной институтских полицейских и каких‑то девиц. До этого она двигалась так, как двигается человек, которого то и дело отбрасывает приливом. По Уоррик‑стрит пройти не удалось – там громили лавки и что‑то жгли. Джейн пошла в обход, но и здесь было то же самое. Она решила сделать петлю побольше, но опять ничего не вышло. Наконец, она увидела, что на Боун‑лейн пусто и тихо. Больше деваться было некуда. Почти сразу ее остановили институтские полисмены, на них она натыкалась повсюду, кроме тех мест, где шли наибольшие беспорядки. «Здесь хода нет», – сказали они. Потом они отвернулись. Было темно, Джейн совсем вымоталась и попробовала проскочить. Они ее схватили. Вот почему она оказалась в ярко освещенной комнате, перед женщиной в форме, стриженой, седой, с большим квадратным лицом. Все было перевернуто, словно полицейские ворвались в чей‑то дом и превратили его в участок. Женщина жевала незажженную сигару и не проявляла интереса, пока Джейн себя не назвала. Тогда она посмотрела ей в лицо. Джейн очень устала и перепугалась, но тут ощутила что‑то новое: лицо этой женщины было ей мерзко, как бывали мерзки в ранней юности лица толстых мужчин с похотливыми глазками и липкой улыбкой. Оно было до ужаса бесстрастно и до ужаса алчно. Джейн видела, что женщина что‑то подумала, потом отказалась от этой мысли, потом ее приняла и зажгла свою сигару. Если бы Джейн знала, как редко мисс Хардкастл это делает, она бы испугалась еще сильней. Полицейские и девицы это знали. Сама атмосфера в комнате изменилась.
– Джейн Стэддок, – отчеканила Фея. – Я про вас, миленькая, все знаю. Мы с вашим мужем большие друзья. – Говоря это, она писала на зеленом листе бумаги.
– Так, так, – продолжила она. – Скоро вы его увидите. Мы вас подбросим в Беллбэри. Теперь такой вопрос. Что вы тут делали в ночное время?
– Я шла со станции.
– А где вы были, лапочка?
Джейн не ответила.
– Мужа нет, а она гуляет, – процедила мисс Хардкастл.
– Отпустите меня, пожалуйста, – взмолилась Джейн. – Уже очень поздно, а я устала. Мне пора домой.
– Так вам же не домой, – поправила Фея. – Вам с нами, в Беллбэри.
– Мой муж меня туда не звал.
Мисс Хардкастл покачала головой.
– Ах, какой! Нехорошо, нехорошо. Ну, мы вас подбросим.
– Я не совсем понимаю.
– А мы вас арестовали, – заявила мисс Хардкастл и положила перед Джейн зеленую бумагу. Джейн увидела то, что и видишь, глядя на документ – какие‑то пункты, что‑то заполнено, что‑то нет, где‑то карандашные пометки, где‑то твое собственное имя, а понять ничего нельзя.
– Господи! – вскричала Джейн и кинулась к двери. Конечно, она до нее не добежала. Придя в себя, она заметила, что ее держат двое полицейских.
– Пылкая дамочка! – игриво заметила мисс Хардкастл. – Ну, мы выгоним нехороших дядей… – она что‑то приказала, полисмены вышли и закрыли за собой дверь. Вот тут Джейн почувствовала, что у нее не осталось совсем никакой защиты.
– Так, – сказала мисс Хардкастл двум девицам в форме. – Посмотрим, посмотрим. Четверть первого… там все идет хорошо. Что ж, Дэйзи, можно и передохнуть. Крепче, Китти, вырвется! Вот так.
Говоря это, мисс Хардкастл сняла ремень, китель и бросила их на диван. Перед Джейн предстал могучий бюст (как и полагал Ящер, лифчика она не носила) рыхлый, уродливый, едва прикрытый – такое мог бы изобразить сошедший с ума Рубенс. Фея снова села, вынула изо рта сигару, выпустила дым в лицо своей жертве и спросила ее:
– Откуда ехала?
Джейн не ответила и потому, что не могла произнести ни слова, и потому, что знала теперь точно: это и есть те враги рода человеческого, о которых говорил «он», и отвечать им нельзя. Героиней она себя при этом не чувствовала. Все стало для нее нереальным, и она словно в полусне слышала пр??каз: «Лапочки, давайте‑ка ее сюда». Как в полусне она видела, что мисс Хардкастл сидит на стуле, словно в седле, широко расставив обтянутые сапогами ноги. Девицы ловко и умело поставили ее между этими ногами, и мисс Хардкастл свела колени, зажав таким образом пленницу. Рядом с этой людоедкой было так страшно, что Джейн уже совсем не боялась за себя. Мисс Хардкастл долго глядела на нее и курила ей в лицо. Потом сказала:
– А она ничего.
Помолчала опять, потом спросила:
– Куда ездила?
Джейн глядела на нее и не отвечала. Мисс Хардкастл наклонилась, отодвинула ворот блузки и прижала к обнажившемуся плечу свою сигару. Потом, помолчав, опять спросила:
– Где была?
Сколько раз это повторялось, Джейн не помнила. Во всяком случае, настало время, когда мисс Хардкастл обратилась не к ней, а к одной из девиц.
– Чего тебе, Дэйзи?
– Я хочу сказать, мэм, что уже пять минут второго.
– Да, летит время… Ну и что? Ты не устала? Она у нас легонькая.
– Нет, мэм, спасибо. Вы сами сказали, мэм, что ровно в час вас ждет капитан О'Хара.
– О'Хара? – сонно повторила мисс Хардкастл и вдруг очнулась. Она вскочила, надела китель. – Ну и ну! – причитала она. – И дуры вы у меня! Что раньше не сказали?
– Боялись, мэм.
– Боялись они! А для чего вы тут, интересно?
– Вы не любите, когда вам мешают, мэм.
– Ладно, разговорились! – прикрикнула мисс Хардкастл и ударила свою подчиненную по щеке. – Так. Ее веди в машину. Потом застегнешь, дура. Я сейчас, только морду ополосну.
Через несколько секунд Джейн сидела между Дэйзи и Китти. На заднем сиденьи помещалась и мисс Хардкастл (оно было на пятерых). Машина двигалась сквозь мрак. «Город объезжай, Джо, – инструктировал голос мисс Хардкастл. – Там сейчас веселье. Ты задами, задами». Даже и так они время от времени натыкались на толпу. Потом машина вдруг стала. «Ты чего?! – взвизгнула мисс Хардкастл. Шофер только сопел и что‑то дергал. „Что это?“ – повторила она, и он отвечал: „Не знаю, мэм“. „Хоть за машиной смотреть бы умел! – сказала мисс Хардкастл. – Да, полечить бы вас как следует…“ Дорога была пуста, но где‑то рядом, судя по шуму, была улица, и далеко не мирная. Шофер вылез и открыл капот. „Значит так, – сказала мисс Хардкастл. – Вы обе ловите машину. Не поймаете, через десять минут идите обратно. Живо!“ Девицы исчезли в темноте. Мисс Хардкастл бранила шофера, шофер копался в моторе. Шум усиливался. Вдруг шофер выпрямился (Джейн увидела в свете фар, как блестит пот на его лице) и сказал:
– А, может, хватит? Если вы такая умная, чините сами.
– Ты это брось, Джо – прорычала мисс Хардкастл. – А то сообщу кое‑что о тебе в настоящую полицию.
– Ну и что? – заявил Джо. – Куда ей до вас! Где я только ни был, а перед вами – детские игрушки. Там хоть с тобой как с человеком. И начальник мужчина, а не баба.
– Да, Джо, – процедила сквозь зубы мисс Хардкастл. – Только теперь ты так легко не отделаешься!
– Вон как? А если и я о вас кое‑что расскажу?
– Ой, мэм, говорите с ним получше! – завопила бегущая к ним Китти. – Они идут!
И впрямь какие‑то люди – по двое, по трое – показались на дороге.
– Тихо, – цыкнула на девиц мисс Хардкастл. – Давай сюда.
Дэйзи и Китти вытащили Джейн из машины и быстро поволокли куда‑то. Мисс Хардкастл шла впереди. Они свернули с дороги в какую‑то аллею.
– Дорогу знаете? – спросила мисс Хардкастл.
– Нет, мэм, – ответила Дэйзи.
– Я не здешняя, мэм, – отрапортовала Китти.
– Ну и народец у меня, – возмутилась мисс Хардкастл. – Хоть что‑нибудь вы знаете?
– Тут вроде нет пути, мэм, – сказала Китти.
Действительно, они зашли в тупик. Мисс Хардкастл постояла с минуту. В отличие от своих девиц, она казалась не испуганной, а приятно возбужденной, и ее даже забавляло, что они так трясутся.
– Да, – заметила она. – Ночка – что надо. Сама жизнь, а, Дэйзи? И чего эти дома пустые? Закрыты все. Лучше нам стоять, где стоим.
Шум усилился, и было видно, что большая толпа движется куда‑то к западу. Вдруг крики стали совсем дикими.
– Поймали Джо, – определила мисс Хардкастл. – Если он их переорет, то натравит их на нас. Так. Значит, ее отпустим. Чего трясешься, дура? Беги. Бежим поодиночке. Через толпу мы пройдем. Головы не теряйте. Что бы ни было, не стрелять! От развилки идите на Биллингэм. Ну‑ну‑ну! Меньше крику, скоро увидимся.
И она исчезла. Джейн видела, как она нырнула в толпу. Девицы поколебались и последовали за ней. Джейн села на ступеньки. Ожоги болели, но больше всего ее мучила усталость. Кроме того, ей было очень холодно и немножко мутило. Но усталость была хуже всего, просто хоть засни.
Джейн встряхнулась. Кругом было тихо, она совсем замерзла, у нее болели ноги и руки. «Кажется, я и впрямь уснула…» – подумала она. Она встала, распрямилась и пошла по пустынной аллее к шоссе. Там шел только один человек в железнодорожной форме. «Доброе утро, мисс», – сказал он на ходу. Она постояла и пошла направо. Убегая, Дэйзи и Китти швырнули ей пальто; в кармане обнаружилось полплитки шоколада, и она жадно откусила кусок. Когда она доедала шоколад, мимо проехала машина и остановилась:
– Вы не ранены? – спросила женщина.
– Нет… ничего… не знаю… – глупо ответила Джейн.
Мужчина поглядел на нее и вышел.
– Что‑то вы мне не нравитесь, – заключил он. – Вам не плохо? – и спросил о чем‑то женщину. Джейн казалось, что она очень давно не слышала нормального голоса, и она чуть не заплакала. Незнакомые люди усадили ее в машину, дали ей бренди и бутерброд, потом спросили, не подвезти ли ее домой. Где она живет? К своему удивлению, Джейн услышала, что говорит: «В Сент‑Энн». «Вот и прекрасно, – сказал мужчина. – Мы в Бирмингем, как раз по дороге». Джейн опять заснула и проснулась лишь тогда, когда женщина в пижаме, Айви Мэггс, открывала ей дверь. Но она так устала, что не понимала, как добралась до кровати.
8. ЛУНА НАД БЕЛЛБЭРИ
– Меньше всего на свете, мисс Хардкастл, – сказал Уизер, – я хотел бы вмешиваться в ваши… э‑э‑э… частные развлечения. Но помилуйте!..
Едва начался рассвет, однако ИО был в обычном своем виде, только еще небритый. Быть может, он просидел в кабинете всю ночь, но тогда оставалось неясным, почему в камине нет огня. Оба они – и Уизер, и Фея – стояли у холодной черной решетки.
– Куда она денется? – проворчала Фея. – Возьмем в другой раз. А попытка, знаете, не пытка. Если бы я вытянула, где она была… мне бы еще минутку‑другую… Может, это как раз их штаб. Всех бы сразу и накрыли.
– Обстоятельства вряд ли располагали… – начал Уизер, но она его перебила.
– У нас, миленький, времени в обрез. Фрост жалуется, что ему трудно, это… входить в контакт с ее сознанием. По вашим метапсихологиям, или как их там, это значит, что она попадает под чужую власть. Сами же говорили! Хороши мы будем, если он потеряет контакт, пока я его не наладила!
– Мне всегда интересны… э‑э‑э… ваши взгляды, – заметил Уизер. – Я глубоко ценю их… э‑э‑э… самобытность… не всегда уместную, прибавим… но существуют предметы, которые не совсем входят в вашу… э… компетенцию. Ваш профессиональный опыт, если можно так выразиться, иного порядка… На этой фазе мы ареста не планировали. Я опасаюсь, как бы нашему ГЛАВЕ не показалось, что мы вторглись в несколько чужую область. Я никак не хочу сказать, что я разделяю это мнение. Но все мы согласны с тем, что самовольные действия…
– Бросьте, Уизер! – перебила Фея, присаживаясь на край стола. – Я вам не Стил и не Стоун. Сама не маленькая. Так что гибкость оставим. Какой случай, прямо вышла на девчонку! Не взяла бы я ее, сами бы мололи про отсутствие инициативы… Пугать меня нечего, все мы повязаны, пропадем – так все вместе. А пока не пропали, хороши бы вы были без меня. Девочку сцапать надо? Надо.
– Но не таким же путем! – возмутился Уизер. – Мы всегда избегали какого бы то ни было насилия. Если бы арест мог обеспечить… э… расположение и сотрудничество м‑сс Стэддок, мы не утруждали бы себя общением с ее супругом. Но если мы даже предположим (гипотетически, конечно), что вашим действиям можно найти оправдание, дальнейшие ваши поступки не выдерживают, как это ни прискорбно, никакой критики.
– Ну откуда я могла знать, что эта чертова машина сломается?!
– Боюсь, – сказал Уизер, – что ГЛАВА не сочтет инцидент с машиной единственным вашим промахом. Поскольку интересующее нас лицо оказало, пусть слабое, но сопротивление, вряд ли имело смысл прибегать к использованным вами методам. Вы прекрасно знаете, что я везде и всегда стою за полнейшую гуманность. Такие взгляды, однако, вполне допускают применение более решительных средств. Умеренная боль, которую выдержать можно, попросту бессмысленна. Не в ней, нет, не в ней доброта к… э‑э… пациенту. Мы предоставили в ваше распоряжение более научные, более цивилизованные средства, способствующие принудительному исследованию. Я говорю неофициально, мисс Хардкастл, и ни в малейшей степени не решусь предвосхищать реакцию Главы. Но я бы изменил своему долгу, если бы не напомнил вам, что не впервые слышу о вашей склонности к… э… некоторому эмоциональному возбуждению во время работы, которое отвлекает вас от прямых обязанностей.
– А вы найдите кого‑нибудь другого на такое дело, – хмуро откликнулась Фея.
ИО взглянул на часы.
– Ладно, – подвела черту Фея. – На что я сейчас Главе? Всю ночь на ногах, могу я хоть выкупаться и пожевать?
– Путь долга, – заметил ИО, – не бывает легким. Надеюсь, вы не забыли, что у нас особенно высоко ценится пунктуальность.
Мисс Хардкастл встала и потерла руками лицо.
– Выпью‑ка я раньше, – сказала она. Уизер умоляюще воздел руки.
– А вы не опасаетесь, что Глава… э… ощутит запах? – спросил он.
– Бросьте, Уизер, иначе не пойду, – отрезала Фея.
Он открыл шкаф и налил ей виски. Оба они вышли и долго шли, в другую часть здания. Всюду было темно, мисс Хардкастл освещала фонариком сперва коридоры, увешанные картинами и устланные коврами, потом – коридоры беленые, устланные линолеумом. Сапоги ее ступали тяжело, шлепанцы Уизера скользили бесшумно. Наконец они достигли освещенных мест, где пахло животными и химией, сказали какие‑то слова в какую‑то дырку, и им открыли дверь. Встретил их Филострато в белом халате.
– Входите, – пригласил он. – Вас ждут.
– Он что, ругается? – спросила мисс Хардкастл.
– Ш‑ш!.. – зашипел Уизер. – Во всяком случае, моя дорогая, о нем не следует говорить в подобном тоне. Он столько перенес… положение его так исключительно…
– Идите скорей, – торопил Филострато. – Одевайтесь, мойтесь и идите.
– Стоп, – качнулась Фея. – Минуточку.
– Что такое? – обернулся Филострато.
– Сейчас сблюю.
– Здесь нельзя, – забеспокоился итальянец, – возвращайтесь к себе. Нет, я сперва сделаю вам укол.
– Ладно, все, – отстранила его мисс Хардкастл. – И не такое видела.
– Тише, прошу вас, – взмолился Филострато, – не открывайте вторую дверь, пока мой ассистент не закроет за вами первую. Говорите лишь самое необходимое. Даже не отвечайте «да». Глава поймет, если вы согласны. Не делайте резких движений, не подходите близко, не кричите, а главное – не спорьте. Идем.
Давно взошло солнце, когда Джейн, еще в полусне, ощутила непонятную радость. Она открыла глаза, на кровать падал утренний зимний свет. «Теперь меня не выгонят», – подумала она. Немного позже вошла Айви Мэггс, принесла завтрак, растопила камин. Джейн присела в кровати и посмотрела на ожоги, алевшие сквозь слишком широкую для нее ночную рубашку. Айви Мэггс вела себя как‑то иначе. «Вот хорошо, что мы обе здесь!» – сказала она, словно они были связаны теснее, чем Джейн казалось. Вскоре пришла и мисс Айронвуд. Она осмотрела ожоги и сказала, что позже, днем, можно будет встать. «А пока бы я полежала, м‑сс Стэддок. Что вы хотите почитать? У нас много книг». Джейн попросила «Мэнсфильд‑парк» note 3, сказки Макдональда note 4 и сонеты Шекспира. Когда их принесли, она заснула опять.
Часа в четыре Айви Мэггс зашла посмотреть, как она, и Джейн сказала, что хочет встать. «Хорошо, – согласилась Айви, – сейчас я вам чаю принесу. Ванная тут рядом, только там мистер Бультитьюд. Целый день сидит, когда холодно!.. Лентяй он у нас… Ничего, я его выгоню».
Когда она ушла, Джейн решила встать сразу, надеясь, что и сама договорится с эксцентричным Бультитьюдом. Ей казалось, что сейчас, сразу, ее ждут веселые приключения. Она надела халат, взяла полотенце и направилась к ванной, так что через минуту, поднимаясь по лестнице, Айви Мэггс услышала крик и увидела, как бледная Джейн выскакивает из ванной.
– Ах ты, Господи, – запричитала Айви. – Ну, ничего, мы сейчас, – и, поставив на площадку поднос, двинулась к двери.
– Он вас не тронет? – пролепетала Джейн.
– Да что вы! – успокоила ее Айви. – А вот слушается плохо. Вот если бы здесь была мисс Айронвуд, или хозяин – тогда другое дело.
Она открыла дверь. Рядом с ванной, пыхтя и сопя, сидел огромный бурый медведь с крохотными, словно бусинки, глазками. Айви долго упрекала его, охала, просила, толкала, даже шлепала, и, наконец, подняв тяжелое тело, он медленно вышел.
– Пошел бы, погулял, – наставляла его Айви… – Ох ты, ох ты, как не стыдно! Сидишь тут, людям мешаешь!.. Вы его не бойтесь, миссис Стэддок. Он у нас смирный. Погладить себя даст. Иди, иди, поздоровайся!
Джейн нерешительно протянула руку, но м‑р Бультитьюд был не в духе и прошел мимо. Шагах в десяти он тяжело сел на пол. Зазвенели чашки и ложечки на подносе, еще стоявшем на полу, и все, кто был на первом этаже, узнали, что медведь присел отдохнуть.
– А не опасно держать его в доме? – спросила Джейн.
– М‑сс Стэддок, – торжественно заявила Айви. – Даже если бы хозяин завел тигра, мы бы не боялись. Такой уж он со зверями. Да и с нами. Поговорит – и больше тебе никто и не нужен. Вот увидите.
– Не отнесете ли вы чай ко мне? – попросила Джейн и пошла в ванную.
– Хорошо, – сказала Айви Мэггс, стоя в открытых дверях. – Вы бы и при нем купаться могли… только большой он, совсем как человек… не знаю, пристойно ли…
Джейн попросила ее закрыть дверь.
– Ну, мойтесь на здоровье, – пожелала Айви, не двигаясь.
– Спасибо, – поблагодарила Джейн.
– У вас все есть? – спросила Айви.
– Спасибо, все.
– Тогда я пойду, – сказала Айви, но снова обернулась. – Мы в кухне – и Матушка, и я, и все.
– М‑сс Димбл сейчас дома? – спросила Джейн.
– Мы ее Матушкой зовем, – пояснила Айви. – И вы зовите. Ничего, вы к нашим делам привыкнете. Только не очень долго мойтесь, чай остынет. И в ванну не лезьте, ранки не заживут. Ну, я пошла.
Когда Джейн помылась, поела, оделась и причесалась как можно тщательней, хотя зеркало и щетки тут были не очень хорошими, она пошла по дому туда, где были люди. В коридоре стояла ни с чем не сравнимая тишина – та самая, что стоит наверху, в больших усадьбах, зимним днем. Джейн дошла до развилки и услышала странный звук: «поб‑поб‑поб…». Взглянув направо, она увидела, что в конце другого коридора, у окна, м‑р Бультитьюд, стоя на задних лапах, задумчиво ударяет передними по большому мячу, подвешенному к потолку. Она свернула налево и вышла на галерею, оттуда лестница вела в большой холл, освещенный и дневным светом, и пламенем камина. Если спуститься туда, поняла она, и подняться снова, по другой лестнице, попадешь к хозяину. Отсюда была видна, хотя и в тени, та часть второго этажа, от нее веяло величием, и Джейн спустилась в холл почти на цыпочках, вспоминая впервые, что было с ней в синей комнате. Из холла она спустилась еще на две ступеньки, прошла по коридору мимо чучела в стеклянном футляре, мимо старинных часов и, ориентируясь на голоса, вышла на кухню.
В большом очаге горел огонь, освещая м‑сс Димбл, которая сидела в кресле и, по‑видимому, чистила овощи. Айви Мэггс и Камилла делали что‑то у плиты (должно быть, в очаге не стряпали), а в других дверях стоял, вытирая руки, высокий полуседой человек. Вероятно, он только что вышел из сада.
– Идите к нам, Джейн, – радушно пригласила м‑сс Димбл. – Сегодня мы не ждем от вас работы. Посидите тут со мной, поболтаем. Это м‑р Макфи, хотя сегодня не его день. Пускай он лучше сам представится.
М‑р Макфи вытер, наконец, руки, бережно повесил полотенце за дверью, подошел и не без учтивости поклонился. Джейн протянула ему руку. У него рука была большая, шершавая, а лицо – умное и худое.
– Рад вас видеть, м‑сс Стэддок, – произнес он.
– Не слушайте его, Джейн, – усмехнулась м‑сс Димбл. – Он тут ваш первый враг. Снам вашим не верит.
– М‑сс Димбл! – повысил голос Макфи. – Я неоднократно объяснял вам разницу между субъективной верой и научной достоверностью. Первая относится к психологии…
– …а от второй просто жизни нет, – закончила миссис Димбл.
– Это неправда, м‑сс Стэддок, – обиделся Макфи. – Я очень рад вам. Мои личные чувства ника?? не связаны с тем, что я считаю своим долгом требовать строго научных опытов, которые подтвердили бы гипотезу относительно ваших снов.
– Конечно, – неуверенно, даже растерянно согласилась Джейн, – вы имеете полное право на собственное мнение…
Женщины засмеялись, а Макфи ответил, перекрывая голосом смех:
– М‑сс Стэддок, у меня нет мнений. Я устанавливаю факты. Если бы на свете было поменьше мнений (он поморщился), меньше бы говорили и печатали глупостей.
– А кто у нас больше всех говорит? – спросила Айви Мэггс, и Джейн удивилась: Макфи не отреагировал. Он вынул оловянную табакерку и взял понюшку табака.
– Чего вы тут топчетесь? – заворчала Айви Мэггс. – Сегодня женский день.
– Вы мне чаю оставили? – спросил Макфи.
– Надо вовремя приходить, – отрезала Айви, и Джейн подумала, что она говорит с ним точно так же, как и с медведем.
– Занят был, – оправдывался Макфи, садясь к столу. – Пропалывал сельдерей. Уж в чем‑в чем, а в огороде женщины не разбираются.
– А что такое «женский день»? – спросила Джейн.
– У нас нет слуг, – пояснила Матушка Димбл. – Мы сами все делаем. Один день – женщины, другой – мужчины. Простите? Нет, это очень разумно. Он считает, что мужчины и женщины не могут хозяйничать вместе, обязательно поссорятся. Конечно, мы в мужские дни не слишком придираемся, но вообще все идет нормально.
– С чего же вам ссориться? – спросила Джейн.
– Разные методы, дорогая. Мужчина не может помогать. Сам он хозяйничать может, а помогать – нет. А если начнет – сердится.
– Сотрудничество разнополых лиц, – заявил Макфи, – затрудняет главным образом то, что женщины не употребляют существительных. Если мужчины хозяйничают вместе, один попросит другого: «Поставь эту миску в другую, побольше, которая стоит на верхней полке буфета». Женщина скажет: «Поставь вот это в то, вон туда». Если же вы спросите, куда именно, она ответит: «ну, туда!» и рассердится.
– Вот ваш чай, – сказала Айви Мэггс. – И пирога вам дам, хоть и не заслужили. А поедите – идите наверх рассказывать про ваши существительные.
– Не про существительные, а при помощи существительных, – поправил Макфи, но она уже вышла. Джейн воспользовалась этим, чтобы тихо сказать м‑сс Димбл:
– М‑сс Мэггс тут совсем как дома.
– Она дома и есть, – отвечала Матушка Димбл. – Ей больше негде жить.
– Вы хотите сказать, наш хозяин ее приютил?
– Вот именно. А почему вы спрашиваете?
– Ну… не знаю… Все же странно, когда она зовет вас Матушкой. Надеюсь, я не сноб, но все‑таки…
– Вы забыли, он и нас приютил. Мы тут тоже из милости.
– Вы шутите?
– Ничуть. И мы, и она живем здесь, потому что нам негде жить. Во всяком случае, нам с Айви. Сесил – дело другое.
– А он знает, что она так со всеми разговаривает?
– Дорогая, откуда мне знать, что знает он?
– Понимаете, он мне говорил, что равенство не так уж важно. А у него в доме… весьма демократические порядки.
– Должно быть, он говорил о духовном равенстве, – разъяснила Матушка Димбл, – а вы ведь не считаете, что вы духовно выше Айви? Или же он говорил о браке.
– Вы понимаете его взгляды на брак?
– Дорогая, он очень мудрый человек. Но он – мужчина, да еще и неженатый. Когда он рассуждает о браке, мне все кажется, зачем столько умных слов, это ведь так просто, само собой понятно. Но многим молодым женщинам невредно его послушать.
– Вы их не очень жалуете, м‑сс Димбл?
– Да, может быть, я несправедлива. Нам было легче. Нас воспитывали на молитвеннике и на книжках со счастливым концом. Мы были готовы любить, чтить, повиноваться и носили юбки, и танцевали вальс…
– Вальс такой красивый, – вставила Айви, которая уже принесла пирог, – такой старинный…
Тут открылась дверь, и послышался голос:
– Если идешь, иди!
И в комнату впорхнула очень красивая галка, за нею вошел м‑р Бультитьюд, за ним – Артур Деннистоун.
– Сколько вам говорить, – сказала Айви Мэггс, – не водите вы его сюда, когда мы обед готовим!
Тем временем медведь, не догадываясь о ее недовольстве, пересек кухню (как он думал, никому не мешая) и уселся за креслом Матушки Димбл.
– Доктор Димбл только что приехал, – сказал ей Артур, – он пошел наверх. Вас тоже там ждут, Макфи.
Марк спустился к завтраку в хорошем настроении. Все говорили о том, что бунт прошел прекрасно, и он с удовольствием прочитал в утренних газетах свои статьи. Еще приятнее ему стало, когда он услышал, как их обсуждают Стил и Коссер. Они явно не знали, что статьи написаны заранее, и не подозревали, кто их написал. У него все шло в это утро как нельзя лучше. Еще до завтрака он перекинулся словом о будущем Эджстоу и с Фростом, и с Феей, и с самим Уизером. Все они считали, что правительство прислушается к голосу народа (выраженному в газетах) и поставит город хотя бы на время под надзор институтской полиции. Введут чрезвычайное положение, дадут кому‑нибудь полную власть. Больше всего подошел бы Фиверстоун. Как член парламента, он представляет нацию; как сотрудник Брэктона – университет, как сотрудник института – институт. Словом, в нем слились воедино все стороны, которые иначе могли бы прийти к столкновению; статьи, которые Марк должен был написать об этом к вечеру, напишутся сами собой. Но и это не все. Из разговоров стало ясно, что есть и другая цель: в свое время, когда вражда к институту дойдет до апогея, Фиверстоуном можно и пожертвовать. Конечно, говорилось это туманней и короче, но Марку было совершенно ясно, что Фиверстоун уже не в самом избранном кругу. Фея заметила: «что с Дика взять, политик!..», Уизер, глубоко вздохнув, был вынужден признать, что дарования лорда Фиверстоуна приносили больше плодов на ранней стадии его научного пути. Марк не собирался подсиживать его и даже не хотел сознательно, чтобы его подсидел кто‑нибудь другой; но все это было ему приятно. Приятно было и то, что он (как выражался про себя) «вышел на Фроста». Он знал по опыту, что везде есть незаметный человек, на котором почти все держится, и большой удачей было даже узнать, кто это. Конечно, Марку не нравилась рыбья холодность Фроста и какая‑то излишняя правильность его черт, но каждое его слово (а говорил он мало) било в точку, и Марк наслаждался беседами с ним. Вообще, удовольствие от беседы все меньше зависело от приязни к собеседнику. Началось это, когда Марк стал своим среди прогрессистов; и он считал, что это свидетельствует о зрелости.
Уизер был с ним более чем любезен. К концу беседы он отвел его в сторону и отечески спросил, как поживает супруга. ИО надеялся, что «слухи о ее… э‑э‑э… нервной дистонии сильно преувеличены». «И какая сволочь ему сказала?» – подумал Марк. «Дело в том, – продолжал Уизер, – что, ввиду вашей высокой ответственной работы, институт пошел бы на то… э‑э‑э… конечно, это между нами… я говорю по‑дружески, вы понимаете, неофициально… мы допустили бы исключение, и были бы счастливы видеть вашу супругу среди нас».
До сих пор Марк не знал, что меньше всего на свете он хотел бы увидеть здесь Джейн. Она не поняла бы стольких вещей – и того, почему он столько пьет… ну, словом, всего, с утра до ночи. К своей (и к ее) чести, Марк и представить себе не мог, чтобы она услышала хотя бы один из здешних разговоров. При ней самый смех библиотечного кружка стал бы пустым и призрачным; а то, что ему, Марку, представлялось сейчас простым и трезвым подходом, показалось бы ей, а потом – и ему – цинизмом, фальшью, злопыхательством. Окажись здесь Джейн, Беллбэри обратится в сплошное непотребство, в жалкую дешевку. Марка просто затошнило при одной мысли о том, как он учил бы Джейн умасливать Уизера или подыгрывать Фее. Он туманно извинился, поблагодарил несколько раз и поскорее ушел.
Позже, днем, Фея подошла к нему и сказала на ухо, облокотившись на его кресло:
– Ну, доигрался!
– Что такое? – спросил он.
– Не знаю, что с тобой, но старика ты довести умеешь. Опасные штучки, опасные…
– О чем вы говорите?
– Мы тут сил не жалеем ради тебя, ублажаем его, думали – все. Он уже собирался зачислить тебя в штат. Так нет же, пять минут поговорили – пять минут, это подумать только! – и все к чертям. Психический ты, что ли…
– Да что ж такое случилось?
– Это ты мне скажи! Он про жену твою не говорил?
– Говорил. А что?
– Что ты ему ответил?
– Чтобы он не беспокоился, то, се… ну, поблагодарил, конечно.
Фея присвистнула.
– Да, – сказала она, нежно постучав по его голове костяшками пальцев, – напортачил ты здорово. Ты понимаешь, на что он пошел? Такого у нас в жизни не было. А ты его отшил. Он теперь ходит, ноет: «не доверяют мне», «обидели». Ничего, он тебя обидит будь здоров! Раз ты не хочешь ее брать, значит – не прижился у нас, так он понимает.
– Но это же бред какой‑то! Я просто…
– Ты что, не мог ему сказать: «Хорошо, вызову»?
– Мне кажется, это мое дело.
– Мало ты по жене скучаешь!.. А мне говорили, она очень даже ничего.
Тут прямо на них пошел Уизер, и оба они замолчали.
За обедом Марк сел рядом с Филострато – поблизости не было никого из своих. Итальянец был в духе и говорил много. Только что он приказал срубить несколько больших красивых буков.
– Зачем вы это сделали, профессор? – спросил его кто‑то через стол. – От дома они далеко. Я даже люблю деревья.
– Да, да, – отвечал Филострато. – Садовые деревья красивы. Но не дикие! Лесное дерево – сорняк. Однажды я видел поистине цивилизованное дерево. То было в Персии. Французский атташе заказал его, ибо там была скудная растительность. Оно было металлическое. Грубо сделано, примитивно – но если его усовершенствовать? Изготовить из легкого металла, скажем – алюминия. Придать ему полное сходство с настоящим…
– Вряд ли оно будет похоже, – усомнился его собеседник.
– Но какие преимущества! Вам надоело, что оно стоит на одном месте – двое рабочих перенесут его, куда вы захотите. Оно бессмертно. С него не опадают листья, на нем не вьют своих гнезд птицы, ни сырости, ни мусора, ни мха.
– Вероятно, экземпляр‑другой был бы даже забавен…
– Почему же один‑другой? Согласен, теперь нам нужны леса, ради атмосферы, но мы найдем химический способ. Зачем же тогда лес? По всей земле не будет ничего, кроме искусственных деревьев. Мы очистим планету.
– Вы хотите сказать, – уточнил другой ученый, – что растительность не нужна?
– Вот именно. Сами же вы бреетесь, – даже каждый день. А в свое время мы побреем всю землю.
– А как же птицы?
– Я не оставил бы и птиц. На искусственном дереве будут сидеть искусственные, заводные птицы. Устали – выключите. Ни перьев, ни гнезд, ни яиц, ни всей этой грязи.
– Так и всякую жизнь уничтожишь! – воскликнул Марк.
– Безусловно. Гигиена этого требует. Послушайте, друзья мои. Когда вы видите гниющий плод, вы ведь бросаете его – ибо в нем кишит жизнь!
– Интересно… – заметил первый ученый.
– А что вы называете грязью? Не органические ли продукты? Минералы, говоря строго, грязи не порождают. Истинная грязь происходит от организмов – пот, слюна, прочие выделения. «Нечистое» и «органическое» – синонимы.
– К чему же вы клоните, профессор? – удивился второй ученый. – Ведь мы и сами организмы, в конце концов.
– Именно. В человеке органическая жизнь произвела Разум. Она сделала свое дело. Больше она нам не нужна. Мы больше не нуждаемся в мире, кишащем жизнью. Его словно покрыла плесень. И мы избавимся от нее. Конечно, постепенно. Мы уже постигаем, как этого добиться. Мы учимся поддерживать разум без тела. Мы учимся поддерживать тело химическими веществами, а не мертвыми животными и растениями. Мы учимся воспроизводить себе подобных без совокупления.
– Ну, в этом радости мало… – улыбнулся первый ученый.
– Дорогой мой, вы уже отделили от деторождения то, что вы зовете радостью. Более того, сама ваша радость исчезает. Конечно, вы так не думаете. Но взгляните на ваших женщин. Больше половины фригидны! Видите? Сама природа начинает избавляться от анахронизмов. Когда они окончательно исчезнут, станет возможной истинная цивилизация. Если бы вы были крестьянином, вы бы это поняли. Станет ли кто пахать на быках? Нет, нет, здесь нужны волы. Пока существует пол и все, что с ним связано, порядка не будет. Когда человек отбросит его, человеком можно будет управлять.
Обед кончился и, вставая из‑за стола, Филострато тихо сказал Марку:
– Сегодня в библиотеку не ходите. Понятно? Вы в опале. Зайдите ко мне, побеседуем.
Марк пошел за ним, удивляясь и радуясь, что, хотя он в немилости у самого ИО, Филострато остался ему верен. В кабинете, на втором этаже, Марк уселся у камина, но хозяин продолжал расхаживать из угла в угол.
– Мне очень неприятно, мой молодой друг, – начал он, – что вы испортили отношения с Уизером. Надо их снова наладить, понятно? Если он предлагает вам вызвать жену, то почему ??ы вам ее не вызвать?
– Я и не думал, – сказал Марк, – что ему это так важно.
– Это важно не ему, – уточнил итальянец. – Этого хочет Глава.
– Глава? – удивился Марк. – Так он же подставное лицо! А ему‑то зачем моя жена?
– Вы ошибаетесь, – заметил Филострато, – он никак не подставное лицо.
Тон его был странен. Оба помолчали.
– То, что я говорил за обедом, – продолжил наконец профессор, – истинная правда.
– Нет, зачем Джайлсу моя жена? – настойчиво повторил Марк.
– Джайлсу? – переспросил Филострато. – Причем тут Джайлс? Я сказал вам, что за обедом говорил правду. Мы создаем стерильный мир. Чистый разум, чистые минералы, больше ничего. Что унижает человека? Рождение, соитие, смерть. По‑видимому, мы сумеем освободить его от всего этого.
Марк стал сомневаться в том, нормален ли Филострато или хотя бы не пьян ли.
– Кстати, жене вашей я не придаю никакого значения, – заметил тот. – Что мне чьи‑то жены? Вся эта сфера внушает мне отвращение. Но если ему это важно… Видите ли, друг мой, вся суть в том, собираетесь ли вы стать одним из нас.
– Я не совсем понимаю, – замялся Марк.
– Вы слишком далеко зашли, чтобы остаться в стороне. Вы – у перекрестка, друг мой. Если вы попытаетесь пойти назад, вас ждут неприятности, как этого глупца Хинджеста. Если же вы поистине объединитесь с нами – весь мир… что я – вся Вселенная лежит у ваших ног!
– Конечно, я хочу быть с вами, – промолвил Марк, все больше волнуясь.
– Глава полагает, что вы можете стать поистине нашим, если привезете свою жену. Вы нужны ему целиком, все – или ничего. Везите ее сюда. Она тоже должна быть нашей.
При этих словах Марка словно окатило холодной водой. И все же… все же здесь, сейчас, под взглядом блестящих глазок итальянца, он вообще не мог представить себе Джейн.
– Глава скажет это вам, – продолжал Филострато.
– Джайлс приехал? – осведомился Марк.
Филострато, не отвечая, отдернул гардину и включил свет. Туман рассеялся, поднялся ветер. Полная луна глядела на них. Казалось, на них катится мяч. Бескровный свет залил комнату.
– Вот он, мир чистоты, – сказал Филострато. – Голый камень – ни травы, ни лишайника, ни пылинки. Даже воздуха нет. Ничто не портится, не гниет. Горный пик – словно пика, острая игла, которая может пронзить ладонь. Под нею – черная тень, в тени – небывалый холод. Если же сделаешь шаг, выйдешь из тени, ослепительный свет режет зрение, словно скальпель, камень обжигает. Вы погибнете, конечно. Но и тогда не станете грязью. В несколько секунд вы станете кучкой пепла – чистым, белым порошком. Никакой ветер не развеет его, каждая мельчайшая пылинка останется на месте до конца света… но это бессмыслица. Вселенной нет конца.
– Да, – согласился Марк, глядя на луну. – Мертвый мир.
– Нет! – почти прошептал Филострато, даже прошелестел, хотя обычно голос у него был резкий. – Там есть жизнь.
– Мы это знаем? – спросил Марк.
– О, да, разумная жизнь. Внутри. Великая, чистая цивилизация. Они очистили свой мир, почти избавились от органической жизни.
– Как же…
– Им не нужно ни рождаться, ни умирать. Они сохраняют разум, сохраняют его живым, а органическое тело заменяют истинным чудом прикладной биохимии. Им не нужна органическая пища. Вам понятно? Они почти свободны от природы, они связаны с ней тонкой, очень тонкой нитью.
– Вы думаете, – спросил Марк, указывая на луну, – все это сделали они сами?
– Что же здесь странного? Если убрать растительность, не будет ни воздуха, ни воды.
– Зачем же это?
– Ради гигиены. Однако, дело их еще не кончено. Там есть и внешние жители, как бы дикари. На другой стороне существует грязное пятно, с лесами, водой и воздухом. Великая раса стремится дезинфицировать планету, но дикари еще сопротивляются. Если бы перед вами предстала другая сторона, вы бы увидели, как уменьшается зеленовато‑голубое пятно, словно кто‑то чистит серебряную посуду.
– Откуда же вы это знаете?
– Я скажу вам об этом в другой раз. У Главы много источников информации. Сейчас мне важно вдохновить вас. Я хочу, чтобы вы узнали, что можно сделать… что мы сделаем. Мы победим смерть, другими словами – победим органическую жизнь. Мы выведем из этого кокона ??ового Человека, бессмертного, свободного от природы. Природа была нам лестницей, и мы ее оттолкнем.
– Вы думаете, вам удастся сохранить разум без тела?
– Мы уже начали.
Сердце у Марка сильно забилось, он забыл и Уизера, и Джейн.
– Глава, – проговорил Филострато, – уже по ту сторону смерти…
– Как, Джайлс умер?
– Причем тут Джайлс? Речь не о нем.
– А о ком же?
Тут постучали в дверь, и, не дожидаясь ответа, голос Страйка спросил:
– Готов он?
– О, да! Ведь вы готовы, мой друг?
– Вы ему объяснили? – спросил Страйк, входя. – Пути назад нет, молодой человек. Глава ждет вас. Вы поняли? ГЛАВА. Вы узрите того, кто был убит и живет. Воскресение Христово – символ. Сегодня вы увидите то, что оно означало.
– О чем вы говорите?! – хрипло закричал Марк.
– Друг мой прав, – пояснил Филострато. – Глава живет вне животной жизни. С точки зрения природы, это смерть, но вы услышите живой голос, и скажу вам между нами – подчинитесь ему.
– Кому? – изумился Марк.
– Франсуа Алькасану, – ответил Филострато.
– Он же казнен… – проговорил Марк. Оба кивнули. Казалось, два лица висят над ним в воздухе, как маски.
– Вы боитесь? – спросил Филострато. – Вам нечего бояться. Вы не из тех, нет. Мы победили время. Мы победили пространство – один из нас летал на другие планеты. Да, его убили, и записи его неясны, но мы создадим другой корабль…
– Воцарится бессмертный человек, – сказал Страйк. – О нем глаголят пророки.
– Конечно, – заметил Филострато, – поначалу это будет дано избранным, немногим…
– А потом – всем? – спросил Марк.
– Нет, – отвечал Филострато, – потом это будет дано одному. Вы ведь не глупы, мой друг? Власть человека над природой – басни для бедных. Вы знаете, как и я, что это означает власть одних над другими при помощи природы. «Человек» – абстракция. Есть лишь конкретные люди. Не человек вообще, а некий человек обретет все могущество. Алькасан – первый его набросок. Совершенным будет другой, возможно – я, возможно – вы.
– Грядет царь, – вещал Страйк, – вершащий суд на земле и правду на небесах. Вы думали, это мифы? Но это свершится!
– Я не понимаю, не понимаю… – бормотал Марк.
– Ничего трудного здесь нет, – пояснил Филострато. – Мы нашли способ сохранять жизнь в мертвеце. Алькасан был умным человеком. Теперь, когда он живет вечно, он становится все умнее. Позже мы облегчим его существование – надо признаться, оно сейчас не слишком комфортабельно. Вы понимаете меня? Одним мы его облегчим, другим… не очень. Мы можем поддерживать жизнь в мертвецах независимо от их воли. Тот, кто станет владыкой Вселенной, будет давать вечную жизнь, кому захочет.
– Бог дарует одним вечное блаженство, другим – вечные муки, – вставил Страйк.
– Бог? – переспросил Марк. – Я в Бога не верю.
– Да, – согласился Филострато, – Бога не было, но следует ли из этого, что его и не будет?
– Здесь, в этом доме, – сказал Страйк, – вы увидите первый набросок Вседержителя.
– Идете вы с нами? – спросил профессор.
– Конечно идет, – изрек бывший священник. – Или он полагает, что можно не пойти и остаться в живых?
– А что до жены, – заключил профессор, – сделаете так, как вам велят.
Теперь Марка могли поддержать лишь бренди, выпитое за обедом, и сбивчивое воспоминание о часах, проведенных когда‑то с Джейн или с друзьями. И еще – то омерзение, которое внушали ему два освещенных луной лица. Всему этому противостоял страх, а помогала страху присущая молодым мужчинам вера, что «потом все образуется». К страху и этому подобию надежды присоединялась мысль о том, что ему доверили великую тайну.
– Да, – прошептал он, – да… конечно… иду.
Они вывели его из комнаты. В доме было уже тихо. Когда Марк споткнулся, они взяли его под руки. По длинным коридорам, которых он не видел, они дошли до ярко освещенных мест, где пахло чем‑то непонятным. Филострато что‑то сказал в отверстие; открылась дверь.
Марк оказался в помещении, похожем на операционный зал. Встретил их какой‑то человек в белом халате.
– Снимите костюм, – указал Филострато. Раздеваясь, Марк увидел, что стена напротив него вся в каких‑то счетчиках. От пола к стене тянулись трубки и шланги, и казалось, что перед тобой многоокая тварь со щупальцами. Человек в халате смотрел на дрожащие стрелки. Когда все трое разделись, они долго мыли руки, и Филострато вынул щипцами из стеклянного бака три белых халата. Дали им и маски, и перчатки, как у хирургов. Потом на счетчики смотрел Филострато. «Так, так, – приговаривал он. – Еще немного воздуха. Нет, меньше, до деления 0,3. Теперь свет. Немного раствора. Так (он обернулся к Страйку и Стэддоку). Готовы?»
И он повел их к двери в многоокой стене.
9. ГОЛОВА САРАЦИНА
– Это был самый страшный сон, – рассказывала Джейн следующим утром. Она сидела в голубой комнате перед Ним и Грэйс Айронвуд.
– Да, – согласился он. – Пожалуй, вам труднее всего… пока не начнется битва.
– Мне снилась темная комната, – продолжала Джейн. – Там странно пахло, и раздавались странные звуки. Потом зажегся свет, очень яркий, но я долго не могла понять, на что смотрю. А когда я поняла… я бы проснулась, но я себе не позволила. Сперва мне показалось, что в воздухе висит лицо. Не голова, а именно лицо, вы понимаете, – борода, нос, глаза – нет, глаз не было видно за темными очками. А над глазами – ничего. Когда я привыкла к свету, я очень испугалась. Я думала, что это маска или муляж, но это была не маска. Скорее это был человек в чалме… я никак не могу объяснить. Нет, это была именно голова, но срезанная, верх срезан… и что‑то… ну, выкипало из нее. Что‑то лезло из черепа. Вокруг была какая‑то пленка, не знаю что, как прозрачный мешок. Я увидела, что масса эта дрожит или дергается, и сразу подумала: «Убейте же его, убейте, не мучайте!..» Лицо было серое, рот открыт, губы сухие. Вы понимаете, я долго смотрела на него, пока что‑то случилось. Скоро я разобрала, что оно не держится само собой, а стоит на какой‑то подставке, на полочке, не знаю, а от него тянутся трубки. То есть, от шеи. Да, и шея была, и даже воротничок, а больше ничего – ни груди, ни тела. Я даже подумала, что у этого человека – только голова и внутренности, я трубки приняла за кишки. Но потом, не знаю как, я увидела, что они искусственные – тонкие резиновые трубочки, какие‑то баллончики, зажимы. Трубки уходили в стену. Потом, наконец, что‑то случилось…
– Вам не дурно, Джейн? – участливо спросила Грэйс Айронвуд.
– Нет, ничего, – поблагодарила Джейн. – Только трудно рассказывать. Так вот, внезапно, как будто машину пустили, изо рта пошел воздух с каким‑то сухим, шершавым звуком. Потом я уловила ритм – пуф, пуф, пуф – словно голова дышала. И тут случилось самое страшное – изо рта закапала слюна. Я понимаю, это глупо, но мне его стало жалко, что у него нет рук, и он не может вытереть губы. Но он их облизал. Как будто машина налаживалась… Борода совсем мертвая, а губы над ней шевелятся. Потом в комнату вошли трое, в белых халатах, в масках, они двигались осторожно, как кошки по стене. Один был огромный, толстый, другой – худощавый. А третий… – Джейн остановилась на секунду. – …Это был Марк… мой муж.
– Вы уверены? – переспросил хозяин.
– Да, – крикнула Джейн. – Это был Марк, я знаю его походку. И ботинки. И голос. Это был Марк.
– Простите меня, – сказал хозяин.
– Потом все трое встали перед головой, – продолжала Джейн, – и поклонились ей. Я не знаю, смотрела она на них или нет, глаза закрывали темные очки. Сперва она вот так дышала. Потом заговорила.
– По‑английски? – спросила Грэйс Айронвуд.
– Нет, по‑французски.
– Что она сказала?
– Я не очень хорошо знаю французский. И говорила она странно. Рывками… как будто задыхалась. Без всякого выражения. И, конечно, лицо у нее не двигалось…
– Хоть что‑то вы поняли? – переспросил хозяин.
– Очень мало. Толстый, кажется, представил ей Марка. Она ему что‑то сказала. Марк попытался ответить, его я поняла, он тоже плохо знает французский.
– Что он сказал?
– Что‑то вроде: «через несколько дней, если смогу».
– И все?
– Да, почти все. Понимаете, Марк не мог это выдержать. Я знала, что он не сможет… я даже хотела ему сказать. Я видела, что он сейчас упадет. Кажется, я пыталась крикнуть: «Да он падает!» Но я не могла, конечно. Ему стало плохо. Они его уволокли.
Все помолчали.
– И это все? – нарушила тишину Грэйс Айронвуд.
– Да, – подтвердила Джейн. – Больше я не помню. Я, наверное, проснулась.
Хозяин глубоко вздохнул.
– Что ж, – обратился он к Грэйс Айронвуд. – Положение становится все яснее и яснее. Надо сейчас же это обсудить. Все дома?
– Нет, д‑р Димбл поехал в город, у него занятия. Он вернется только вечером.
– Значит, вечером и соберемся, – он помолчал и обернулся к Джейн. – Боюсь, это очень печально для вас, дитя мое, а для него – еще печальней.
– Для Марка, сэр?
Хозяин кивнул.
– Не сердитесь на него, – сказал он. – Ему очень плохо. Если нас победят, плохо будет и нам. Если мы победим, мы спасем его, он еще не мог далеко зайти. – Он снова помолчал, потом улыбнулся. – Мы привыкли беспокоиться о мужьях. У Айви, например, муж в тюрьме.
– В тюрьме?
– Да, за кражу. Но он хороший человек. С ним все будет хорошо.
Каким страшным и гнусным ни казалось Джейн то, что окружало Марка, этому все же нельзя было отказать в величии. Когда же хозяин сравнил его участь с участью простого вора, Джейн покраснела от обиды и ничего не ответила.
– И еще, – продолжал хозяин дома. – Надеюсь, вы поймете, почему я не приглашаю вас на наше совещание.
– Конечно, сэр, – сказала Джейн, ничего не понимая.
– Видите ли, – пояснил Хозяин, – Макфи считает, что если вы узнаете нашу догадку, она проникнет в ваши сны и лишит их объективной ценности. Его переспорить трудно. Он скептик, а это очень важная должность.
– Я понимаю, – отозвалась Джейн.
– Конечно, речь идет только о догадках, – уточнил хозяин. – Вы не должны слышать, как мы будем гадать. О том же, что мы знаем достоверно, знать можете и вы… Макфи и сам захочет вам об этом поведать. Он испугается, как бы мы с Грэйс не погрешили против объективности.
– Я понимаю… – снова сказала Джейн.
– Я бы очень хотел, чтобы он вам понравился. Мы с ним старые друзья. Если нас разобьют, он будет поистине прекрасен. А что он будет делать, если мы победим, я и представить себе не могу.
Наутро, проснувшись, Марк почувствовал, что у него болит голова, особенно затылок, и вспомнил, что упал… и только тогда вспомнил все. Конечно, он решил, что это страшный сон. Сейчас это все исчезнет. Какая чушь! Только в бреду он видел когда‑то, как передняя часть лошади бежит по лугу, и это показалось ему смешным, хотя и очень страшным. Вот и здесь такая же чушь.
Но он знал, что это правда. Более того, ему было стыдно, что он перед ней сплоховал. Он хотел «быть сильным», но добрые качества, с которыми он так боролся, еще держались, хотя бы как телесная слабость. Против вивисекции он не возражал, но никогда ею не занимался. Он предлагал «постепенно элиминировать некоторые группы лиц», но сам ни разу не отправил разорившегося лавочника в работный дом и не видел, как умирает на холодном чердаке старая гувернантка. Он не знал, что чувствуешь, когда ты уже десять дней не пил горячего чаю.
«В общем, надо встать, – подумал он. – Надо что‑то сделать с Джейн. Видимо, придется привезти ее сюда». Он не помнил, когда и как сознание решило это за него. Надо ее привезти, чтобы спасти свою жизнь. Перед этим казались ничтожными и тяга в избранный круг, и потребность в работе. Речь шла о жизни и смерти. Если они рассердятся, они его убьют, а потом, может быть, оживят… О, Господи, хотя бы они умертвили эту страшную голову! Все страхи в Беллбэри – он знал теперь, что каждый здесь трясся от страха – только проекция этого, самого жуткого ужаса. Надо привезти Джейн. Делать нечего.
Мы должны помнить, что в его сознании не закрепилась прочно ни одна благородная мысль. Образование он получил не классическое и не техническое, а просто современное. Его миновали и строгость абстракций, и высота гуманистических традиций; а выправить это сам он не мог, ибо не знал ни крестьянской смекалки, ни аристократической чести. Разбирался он только в том, что не требовало знаний, и первая же угроза его телесной жизни победила его. И потом, голова так болела, ему было так плохо… Хорошо, что в шкафу есть бутылка. Он выпил и тогда смог побриться и одеться.
К завтраку он опоздал, но это было неважно, есть он все равно не мог. Выпив несколько чашек черного кофе, он пошел писать письмо Джейн и долго сидел, рисуя что‑то на промокашке. На что им Джейн, в конце концов? Почему именно она? Неужели они поведут ее к Голове? Впервые за всю жизнь в душе его забрезжило бескорыстное чувство; он пожалел, что встретил ее, женился на ней, втянул ее в эту мерзость.
– Привет, – раздался голос над его головой. – Письма пишем, да?
– Черт! – подскочил Марк. – Я прямо ручку выронил.
– Подбери, – посоветовала мисс Хардкастл, присаживаясь на стол. Марк подобрал ручку, не поднимая глаз. С тех пор, как его били в школе, он не знал сочетания такой ненависти с таким страхом.
– У меня плохие новости, – начала Фея. Сердце у него подпрыгнуло. – Держись, Стэддок, ты же мужчина.
– В чем дело?
Она ответила не сразу, и он знал, что она смотрит на него, проверяя, натянуты ли струны.
– Узнавала я про твою, – сказала она наконец. – Все так и есть.
– Что с моей женой? – крикнул Марк.
– Т‑ш‑ш! – шикнула на него мисс Хардкастл. – Не ори, услышат.
– Вы мне скажете, что с ней?
Она опять промолчала.
– Что ты знаешь о ее семье?
– Много знаю. Причем это здесь?
– Да так… Интересно… и по материнской линии, и по отцовской?
– Какого черта вы тянете?
– Ай, как грубо! Я для тебя стараюсь. Понимаешь… странная она какая‑то.
Марк хорошо помнил, какой странной она была в последний раз. Новый ужас накатил на него – может, эта гадина говорит правду?
– Что она вам сказала? – спросил он.
– Если она не в себе, – продолжала Фея, – послушайся меня, Стэддок, вези ее к нам. Тут за ней присмотрят.
– Вы мне не сказали, что она такое сделала.
– Я бы твою жену не отдала в вашу тамошнюю психушку. А теперь – тем более. Оттуда будут брать на опыты. Ты вот тут подпишись, а я вечером съезжу.
Марк бросил ручку на стол.
– Ничего я не подпишу. Вы мне скажите, что с ней.
– Я говорю, а ты мешаешь. Она несет какой‑то бред – кто‑то к ней вломился, или на станции напал – не разберешь – и жег ее сигарами. Тут, понимаешь, увидела она мою сигару – и пожалуйста! Значит, это я ее жгла. Как тут поможешь? Я и уехала.
– Мне надо немедленно попасть домой, – твердо сказал Марк, вставая.
– Ну прямо! – Фея тоже встала. – Нельзя.
– То есть, как это – нельзя? Надо, если это правда!
– Ты не дури, – посоветовала Фея. – Я знаю, что говорю. Положение у тебя – хуже некуда. Уедешь без спросу – все. Давай‑ка я съезжу. Вот подпиши тут, будь умница.
– Вы же сами только что сказали, что она вас не выносит.
– Ладно, перебьюсь. Конечно, без этого было бы проще… Эй, Стэддок, а она не ревнует?
– К кому, к вам? – спросил он, не скрывая омерзения.
– Куда тебя несет? – резко спросила Фея.
– К Уизеру, потом домой.
– Ты со мной лучше не ссорься…
– Да идите вы к черту! – огрызнулся Марк.
– Стой! – крикнула Фея. – Не дури, так‑перетак!
Но Марк был уже в холле. Все стало ясным для него. Сперва – к Уизеру, не просить, чтобы тот отпустил, а просто сообщить, что он уходит, жене плохо, и не ждать ответа. Дальнейшее было туманней, но это его не тревожило. Он надел пальто, шляпу, взбежал наверх и постучался к ИО. Ответа не было. Тогда Марк заметил, что дверь прикрыта неплотно. Он толкнул ее и увидел, что ИО сидит к нему спиной. «Простите, – сказал Марк, – можно с вами поговорить?» Ответа не последовало снова. «Простите», – сказал он громче, но Уизер не шелохнулся. Марк нерешительно обошел его и тут же испугался – ему показалось, что перед ним труп. Нет, Уизер дышал, даже не спал, глаза у него были открыты. Он даже скользнул по Марку взглядом. «Простите», – снова начал Марк, но тот не слушал. Он витал где‑то далеко, и Марку явилась дикая мысль – а вдруг душа его газовым облачком летает в пустых и темных тупиках Вселенной?.. Из водянистых глаз глядела бесформенная бесконечность. В комнате было холодно и тихо, часы не шли, камин погас. Марк не мог говорить, но не мог и уйти, ибо Уизер его видел.
Наконец, ИО заговорил, глядя куда‑то, быть может – в небо:
– Я знаю, кто это. Ваша фамилия Стэддок. Почему вы сюда вошли? Вам лучше не входить. Удалитесь.
Именно тогда нервы у Марка окончательно сдали. Он кинулся вниз через три ступеньки, пересек холл, выскочил во двор и побежал по дорожке. Все снова стало ясно. Вон по той тро??инке он за полчаса добежит до автобусной станции. О будущем он вообще не думал. Важны были только две вещи: выбраться отсюда и вернуться к Джейн. Тоска по ней, вполне телесная, не была вожделением – он чувствовал, что жена его дышит милостью и силой, смывающими здешнюю мерзость. Он уже не думал о том, что она сошла с ума. По молодости своей не веря в настоящую беду, он знал, что надо только вырваться из сети, и все будет хорошо, и они будут вместе, словно ничего и не случилось.
Он уже вышел из сада, переходил дорогу – и вдруг остановился. Перед ним, на тропинке, стоял высокий, немного сутулый человек и что‑то мямлил про себя. То был Уизер. Марк повернулся, постоял; такой боли он еще не испытывал. Потом – устало, так устало, что глаза у него заслезились – он медленно побрел назад.
У м‑ра Макфи была на первом этаже комната, которую он называл кабинетом. Женщины входили туда только с его разрешения. И сейчас в этом пыльном, но аккуратном помещении сидела Джейн, которую он пригласил, чтобы «объективно рассмотреть ситуацию».
– Скажу вам, м‑сс Стэддок, – начал он, – что хозяина нашего я знаю очень давно. Он был филологом. Не берусь утверждать, что филология – точная наука, но в данном случае я лишь отмечаю, что он безусловно умен. У нас не частная беседа, и я не буду предвосхищать выводы, а потому не скажу, что воображение было у него всегда развито. Его фамилия Рэнсом.
– Неужели тот, который написал «Диалектическую семантику»? – спросила Джейн.
– Он самый. Так вот, шесть лет назад – у меня все записано, но сейчас это неважно – он исчез в первый раз. Совершенно исчез на девять месяцев. Я думал, он утонул. И вдруг он оказался у себя, в Кембридже, и его немедленно отправили в больницу. На три месяца. Где он был, он рассказал только самым близким друзьям.
– Где же? – поинтересовалась Джейн.
– Он сказал, – и мистер Макфи взял понюшку табака, – что он был на Марсе.
– Он бредил?
– Нет, нет. Он и сейчас так говорит. Судите, как хотите, а он говорит так.
– Я ему верю, – сказала Джейн.
– Я сообщаю вам факты, – продолжил Макфи. – Он же сообщил нам, что его похитили и увезли на Марс профессор Уэстон и некий Дивэйн, теперь лорд Фиверстоун. Но он от них сбежал и был там какое‑то время один.
– Там нет жизни?
– Мы знаем лишь то, что сообщает он. Вы, конечно, понимаете, м‑сс Стэддок, что даже здесь, на земле, человек в полном одиночестве, скажем – географ‑исследователь – может впасть в самое странное состояние. Мне говорили, что он может забыть, кто он.
– Вы думаете, ему все примерещилось?
– Я ничего не думаю. Я излагаю. По его словам, там есть самые разные формы жизни – может быть, поэтому он развел здесь такой зверинец. Но не в том дело. Нам важно, что он там встретил так называемых эльдилов.
– Это животные?
– Вы пытались когда‑нибудь определить, что значит слово «животное»?
– Н‑нет… Я хотела спросить, это разумные существа? Они говорят?
– Да. Они разумны, хотя это не одно и то же.
– Значит, они и есть марсиане?
– Ничуть не значит. Судя по его словам, они бывают на Марсе, но живут в космосе.
– Так там же нечем дышать!
– Я вам рассказываю, что говорит д‑р Рэнсом. По его словам, они не дышат, и не размножаются, и не умирают. Как вы понимаете, последнее утверждение не основано на опыте.
– На что же они похожи?
– Я не вполне готов ответить на этот вопрос.
– Большие они? – против воли спросила Джейн.
– Суть дела в ином, м‑сс Стэддок, – Макфи высморкался. – Д‑р Рэнсом утверждает следующее: с тех пор, как он вернулся на Землю, эти существа посещают его. Он исчез еще раз, отсутствовал более года и, по его словам, был на Венере, куда его доставили они.
– Они и на Венере живут?
– Простите, этот вопрос показывает, что вы не совсем меня поняли. Они вообще не обитают на планетах. Если мы допустим, что они существуют, придется представить себе, что они как бы плавают в космосе, присаживаясь на ту или иную планету, словно птица на дерево. По его словам, некоторые из них как‑то связаны с определенными планетами, но, повторяю, не обитают на них.
– Они людям не вредят?
– Д‑р Рэнсом полагает, что не вредят, но есть одно исключение.
– Какое?
– Эльдилы, которые издавна связаны с Землей. Нам, ??емлянам, не повезло с паразитами. Здесь‑то мы и подходим к сути дела.
Джейн ждала, удивляясь тому, что совсем не удивляется.
– Короче говоря, – продолжал он, – или этот дом посещают эльдилы, или мы все подвержены галлюцинациям. Именно эльдилы открыли Рэнсому, что существует заговор против человечества. Более того, именно они советуют ему, как бороться… если здесь применимо это слово. Вы спросите: как же можно победить могучих врагов, поливая грядки и дрессируя медведей? Я и сам задавал ему этот вопрос. Ответ всегда один: мы ждем приказа.
– От эльдилов? Нет, я все‑таки не пойму. Вы сами сказали, что наши, земные, человеку враждебны.
– Вот это хороший вопрос. Но к нам земные не ходят. У нас другие, космические.
– Неужели они сюда приходят?
– Так полагает доктор Рэнсом.
– Должны же вы знать, правда это или нет?
– Откуда?
– Вы их видели?
– На ваш вопрос нельзя ответить ни положительно, ни отрицательно. Я видел многое – и радугу, и зеркало, и закат, не говоря о снах. Признаю, что здесь, в этом доме, я наблюдал явления, которые объяснить не могу. Но их не бывало, когда я собирался вести запись или хоть как‑нибудь их проверить.
– Разве видеть самому – недостаточно?
– Достаточно – для детей и животных.
– А для разумных людей?
– Мой дядя, д‑р Дункансон (быть может, вам доводилось о нем слышать) говорил: «Поклянитесь мне на слове Божьем» – и клал на стол большую Библию. Так он усмирял тех, кто хотел рассказать о видениях. У меня, м‑сс Стэддок, вера иная, но принципы те же. Если кто‑нибудь хочет, чтобы Эндрю Макфи в него поверил, пусть явится, будет так добр, открыто, при свидетелях, не стесняясь ни фотоаппарата, ни термометра.
– Значит, вы что‑то видели?
– Да, но это не разговор. Бывают обманы чувств, бывают фокусы…
– Чтобы он!.. – сердито воскликнула Джейн. – Никогда не поверю!..
– Я бы предпочел, миссис Стэддок, обходиться без слов этого типа. Что такое «верить»? Честный исследователь обязан принимать в расчет и фокусы. Если такая гипотеза противоречит его чувствам – тем более. Существует сильная психологическая опасность, что он о ней забудет.
– Есть же верность, в конце концов, – заметила Джейн. Макфи, бережно закрывавший табакерку, поднял глаза.
– Да, – согласился он. – Она есть. Когда вы станете старше, вы поймете, что такую большую ценность нельзя отдавать отдельным лицам.
Тут раздался стук в дверь.
– Войдите, – сказал Макфи, и вошла Камилла.
– Вы закончили, мистер Макфи? – спросила она. – Джейн обещала погулять со мной до обеда.
– Что ж, дорогие дамы, гуляйте, – печально произнес шотландец. – Они захватят всю страну, пока мы прохлаждаемся.
– Жаль, что вы не читали стихов, которые я сейчас прочла, – сказала Камилла. – Там все сказано в двух строчках:
Не торопи грядущего, глупец.
Терпения от нас потребует Творец.
– Что это? – спросила Джейн.
– Тэлейсин – уэльсский поэт VI века – ответила Камилла.
– М‑р Макфи, наверное, любит одного Бернса.
– Бернса! – презрительно выговорил Макфи, доставая из письменного стола огромный лист бумаги. – Не буду вас задерживать.
– Он все рассказал? – спросила Камилла в коридоре.
– Да, – ответила Джейн и, что редко с ней случалось, схватила спутницу за руку. Ими обеими владело чувство, которое они не сумели бы назвать. Когда они отворили дверь в сад, они увидели то, что, при всей своей естественности, потрясло их, словно знамение.
Ветер дул весь день, и небо очистилось. Холод обжигал, звезды сурово сверкали, а высоко наверху висела луна – не томная луна любовных песен, но охотница, дикая дева, покровительница безумных. Джейн стало страшно.
– Он сказал… – начала она.
– Я знаю, – сказала Камилла. – Вы поверили?
– Да.
– А он объяснил, почему у Рэнсома такой вид?
– Молодой? То есть, как у молодого, но…
– Да. Такими становятся те, кто вернулся с планет. Во всяком случае, с Переландры. Там и сейчас райский сад. Попросите, он вам расскажет.
– А он умрет?
– Его возьмут на небо.
– Камилла!
– Да?
– Кто он?
– Человек, моя дорогая, Пендрагон, повелитель Логриса. Весь этот дом, все мы, и м‑р Бультитьюд, и Пинчи – то, что осталось от Логрского королевства. Идем туда, на самый верх. Какой ветер! Наверное, сегодня они придут.
Джейн купалась под присмотром барона Корво, пока остальные совещались у Рэнсома.
– Так, – заключил Рэнсом, когда Грэйс Айронвуд кончила читать свои записи. – По‑видимому, все это правда.
– Правда? – переспросил Димбл. – Я не совсем вас понимаю. Неужели они смогут это делать?
– А как по‑вашему, Макфи? – спросил Рэнсом.
– Могут, могут, – ответил Макфи. – Такие опыты давно ставят на животных: отрежут голову, а тело выбросят. Если кровь подавать под нужным давлением, голова какое‑то время продержится.
– Что ж это, Господи! – всхлипнула Айви Мэггс.
– Вы хотите сказать, что голова останется живой? – спросил Димбл.
– Это слово не имеет четкого значения. Какие‑то функции в ней сохранятся, и с обычной, житейской точки зрения, она будет жива. Что же до мышления… если бы речь шла о человеке… не знаю.
– Речь шла о человеке, – подтвердила Грэйс Айронвуд. – Такой опыт ставили в Германии. С головой казненного.
– Это точно? – с большим интересом спросил Макфи. – А вы не знаете, какие были результаты?
– Нет, больше не могу! – запричитала Айви и быстро вышла из комнаты.
– Значит, эта мерзость – не сон, – проговорил м‑р Димбл. Он был очень бледен. Жена его, напротив, являла лишь ту сдержанную гадливость, с какой дамы старого закала выслушивают неприятные подробности, если этого нельзя избежать.
– Доказательств у нас нет, – сказал Макфи. – Я сообщаю факты. То, что она видела во сне, возможно.
– А что это за чалма? – спросил Деннистоун. – Что у него там выкипает?
– Сами понимаете, что это может быть, – сказал Рэнсом.
– Я не уверен, что понимаю, – возразил Димбл.
– Предположим, – продолжил Макфи, – что все это правда. Тогда исследователям этого типа прежде всего захочется подстегнуть мозг. Они будут пробовать разные стимуляторы. Потом, вероятно, они откроют череп, чтобы… да, чтобы мозг выкипал наружу. По их мнению, это должно увеличить его возможности.
– А на самом деле? – спросил Рэнсом.
– Мне кажется, здесь они ошиблись, – сказала Грэйс Айронвуд. – Это приведет к безумию или не даст ничего. Однако, я не знаю точно.
Все помолчали.
– Можно предположить, – заметил Димбл, – что ум его усилился, но преисполнен страдания и злобы.
– Мы не можем судить, – сказала Грэйс Айронвуд, – насколько он страдает. Вероятно, поначалу болела шея.
– Важно не это, – подчеркнул Макфи. – Важно решить, что теперь делать.
– Одно мы знаем точно, – сказал Деннистоун. – Их движение проникло и в другие страны. Чтобы получить эту голову, они должны были иметь своих людей хотя бы во французской полиции.
– Логично, – Макфи потирал руки. – Но возможно и другое допущение: взятка.
– Нет, знаем мы и другое, – сказал Рэнсом. – Мы знаем, что, в определенном смысле, они умеют достигать бессмертия. Они создали новый вид, как бы новую ступень эволюции. Для них и мы, и все люди – просто кандидаты в бессмертные.
– Однако, – пошутил Макфи, – надо ли нам терять голову, если кто‑то потерял тело? Выкипают у него мозги или нет, но мы с ним потягаемся – и вы, д‑р Димбл, и вы, д‑р Рэнсом, и Артур, и я. Мне хотелось бы узнать, какие будут приняты меры.
И, постучав костяшками пальцев по колену, он строго посмотрел на Рэнсома. Лицо Грэйс Айронвуд преобразилось, словно занялись поленья в камине.
– Быть может, м‑р Макфи, – вспыхнула она, – вы разрешите нашему руководителю решать самому?
– Быть может, доктор, – сказал Макфи, – вы разрешите совету узнать о его планах?
– Что вы имеете в виду? – спросил Димбл.
– Вот что, – проговорил Макфи. – Простите за напоминание, но враги захватят всю страну, пока мы выжидаем. Если бы меня послушались полгода тому назад, страну бы захватили мы. Я знаю, вы скажете, что так действовать нельзя. Может, и нельзя. Но если вы и нас не слушаете, и сами ничего не решаете, зачем мы тут сидим? Не набрать ли вам лучших советников?
– А нас распустить? – переспросил Ди??бл.
– Вот именно, – ответил Макфи.
– У меня нет на это прав, – улыбнулся Рэнсом.
– Тогда, – спросил Макфи, – по какому праву вы нас призвали?
– Я вас не призывал, – сказал Рэнсом. – Тут какое‑то недоразумение. Вам казалось, что я вас выбирал? – Никто не отвечал ему. – Казалось вам?
– Что до меня, – пояснил Димбл, – все случилось само собой. Вы ни о чем меня не просили. Потому я и считал себя как бы попутчиком. Я думал, с другими было иначе.
– Вы знаете, почему мы с Камиллой здесь, – сказал Деннистоун. – Конечно, мы не загадывали заранее, на что мы можем пригодиться.
Грэйс Айронвуд заметно побледнела.
– Вы хотите? – начала она, но Рэнсом взял ее за руку.
– Нет, – остановил он ее, – не рассказывайте, кто как сюда попал.
– Вижу, куда вы гнете, – Макфи ухмыльнулся. – Мы попали сюда случайно. Но позволю себе заметить, д‑р Рэнсом, что все это не так просто. Не помню, кто и когда назначил вас нашим начальником, но вы ведете себя как вождь, а не как хозяин дома.
– Да, я вождь, – сказал Рэнсом. – Неужели вы думаете, что я бы отважился на это, если бы решали вы или я? Вы не выбирали меня, и я не выбирал вас. Даже те, кому я служу, меня не выбирали. Я попал в их мир случайно, как попали ко мне и вы, и даже звери. Если хотите, мы – организация, но не мы ее организовали. Вот почему я не вправе и не могу вас отпустить.
Все помолчали снова, и было слышно, как потрескивают поленья.
– Если больше обсуждать нечего, – заметила Грэйс Айронвуд, – не дадим ли мы отдохнуть доктору Рэнсому?
– Нет, – сказал Рэнсом. – Надо еще поговорить о многом.
Макфи, начавший было стряхивать с колен крошки, замер, а Грэйс Айронвуд с облегчением расслабилась.
– Сегодня мы узнали, – сказал Рэнсом, – о том, что творится сейчас в Беллбэри. Но я думаю о другом.
– Да? – серьезно сказала Камилла.
– О чем это? – спросил Макфи.
– О том, – сказал Рэнсом, – что лежит под Брэгдонским лесом.
– До сих пор думаете? – спросил Макфи.
– Я не думаю почти ни о чем другом, – отвечал Рэнсом. – Мы кое о чем догадывались. Вероятно, это опаснее Головы. Когда силы Беллбэри объединятся с древними силами, Логрис, то есть человек, будет окружен. Мы должны им помешать. Но сейчас еще рано. Мы не можем проникнуть в лес. Надо дождаться, пока они найдут… его. Я не сомневаюсь, что мы об этом узнаем. А сейчас – надо ждать.
– Не верю я этой басне, – сказал Макфи.
– Я думала, – сказала Грэйс Айронвуд, – что мы не употребляем слов типа «верить». Я думала, мы наблюдаем факты, избегаем поспешных выводов…
– Если вы будете препираться, – сказал Рэнсом, – я вас поженю.
Поначалу никто из них не мог понять, зачем институту Брэгдонский лес. Почва там не вынесла бы огромного здания (во всяком случае, для этого пришлось бы проделать много дорогих работ), а город для института не подходил. Несмотря на недоверие Макфи, Рэнсом, Димбл и Деннистоун занялись этим вопросом и пришли к важным выводам. Все трое знали теперь о временах короля Артура то, до чего наука не дойдет и за сотни лет. Они знали, что Эджстоу лежит в самом центре Логрского королевства, что деревня Кьюр Харди хранит былое имя, и что исторический Мерлин жил и колдовал в этих местах.
Что именно он там делал, они не знали; но, каждый своим путем, зашли так далеко, что не могли уже считать сказкой предания о его силе, или отнести эту силу к тому, что люди Возрождения звали магией. Димбл даже утверждал, что хороший филолог может распознать по тексту, о магии идет речь, или об ином. «Что общего, – говорил он, – между таинственными оккультистами вроде Фауста или Просперо, с их ночными бдениями, черными книгами, пособниками‑бесами и Мерлином, который творит невозможное просто потому, что он Мерлин?» Рэнсом с ним соглашался. Он полагал, что ведовство, или точнее, ведение Мерлина – остаток чего‑то очень древнего, попавшего в Западную Европу после того, как пал Нуминор, и хранившего следы тех времен, когда отношения духа и материи были на Земле иными. Ведение это по самой сути своей отличалось от ренессансной магии. Вероятно (хотя и не наверное), оно было гораздо невиннее; и уж во всяком случае, пользы от него было гораздо больше. Ведь Парацельс и Агриппа почти ничего не достигли, и сам Бэкон – возражавший против магии только по этой причине – признал, что маги «не преуспели в величии и верности трудов». Поистине, могло показаться, что магия, столь бурно расцветшая в эти времена, вела лишь к тому, что человек губил душу, не получая ничего взамен.
Если догадки были правильны, это значило очень многое. Это значило, что ГНИИЛИ, в самой своей сердцевине, связан уже не только с нынешней, научной формой власти. Конечно, другой вопрос, знали ли об этом сотрудники института; но Рэнсом напоминал себе: «Дело не в том, как СОБИРАЮТСЯ действовать люди – это все равно решат темные эльдилы – а в том, как они БУДУТ действовать. Возможно, домогаясь Брэгдонского леса, они знают, чего ищут; возможно, они придумали какую‑то причину – теорию о почве, о воздухе, о неизвестных излучениях – чтобы это объяснить».
Рэнсом полагал, что в определенной степени важен сам лес – ведь не зря считают, что место не безразлично. Однако, сон о спящем под землею многое объяснил. Значит, главное внизу, под лесом; и это – тело Мерлина. Когда эльдилы сказали ему, что так оно и есть, он не удивился. Не удивлялись и они; земные формы бытия – зачатие, рождение, смерть – были для них не менее странными, чем пятнадцативековый сон. Для них, созидающих нашу природу, ничто не является «естественным». Они всегда видят неповторимость каждого акта творения. Для них нет общего; все, по отдельности, рождается, словно шутка или песня, из чудотворного самоограничения Творца, отбрасывающего мириады других возможностей ради этого, вот этого творения. Эльдилы не удивлялись, что тело лежит нетленно пятнадцать веков; они знали миры, где нет тления. Эльдилы не удивлялись, что душа осталась связанной с ним – они знали бесконечное множество способов, какими дух соединяется с материей, от полного слияния, создающего нечто третье, до встреч, коротких, как соитие. Они принесли не весть о чуде, а важную новость. Мерлин не умер. Жизнь его, при определенных условиях, вернется в тело.
Они не сказали этого раньше, потому что не знали. В спорах с Макфи Рэнсому особенно мешало то, что шотландец – как, впрочем, и многие – почему‑то считал: если есть существа мудрее и сильнее людей, они всеведущи и всемогущи. Конечно, эльдилы были очень сильны, они вполне могли разрушить Беллбэри, но сейчас это не было нужно. Сознания же человека они прямо увидеть не могли. О Мерлине они узнали не иначе, как по особому сочетанию признаков, указывающему на то, что в этом месте кого‑то увели с главной дороги времен в неведомые нам поля. Ведь не только прошлое и будущее отличны от настоящего.
Вот почему Рэнсом не спал и думал, когда остался один. Он не сомневался, что враги нашли Мерлина; а если нашли – сумеют разбудить. Тогда соединятся две силы, и это решит судьбу Земли. Несомненно, темные эльдилы веками подготавливали это. Естественные науки, невинные и даже полезные сами по себе, уже при Рэнсоме пошли куда‑то в сторону. Конечно, их сводили с пути в определенном направлении. Темные эльдилы непрестанно внушали ученым сомнения в объективной истине, а потом и равнодушие к ней, и это привело к тому, что важна стала лишь сила. Смутные толки об этом и заигрывания с панпсихизмом воскрешали понемногу любезную магам Мечту о предназначении человека и его далеком будущем, извлекали из могилы старое человекобожие. Опыты над животными и работа на трупах приучали к тому, что ради прогресса нужно прежде всего перебороть себя и делать то, что душа делать не позволяет. Теперь это все достигло такой степени, что стоящие за этим решили: можно выгнуть науку назад, чтобы она сомкнулась с древними забытыми силами. По‑видимому, раньше это было невыполнимо. Этого нельзя было сделать в XIX веке, когда твердый материализм не позволил бы ученым поверить в такие вещи; а если бы они и поверили, унаследованная порядочность не позволила бы им касаться нечистого. Пережитком этого века был Макфи. Теперь все изменилось. Вероятно, мало кто знал в Беллбэри, что происходит, но если они и узнают, то будут, как солома на ветру. Что сочтут они непотребным, когда нравственность для них – побочный продукт биологических и экономических процессов? Времена созрели. С точки зрения преисподней, к этому вела вся человеческая история. Падший человек уже может стряхнуть те ограничения, которые само милосердие наложило на его силу. Если он это сделает, воплотится ад. Дурные люди, ползающие сейчас по маленькой планете, обретут состояние, которое прежде обретали лишь по смерти, и станут прямым орудием темных сил. Природа станет их рабыней, и предел этому положит лишь конец времен.
10. ЗАХВАЧЕННЫЙ ГОРОД
До сих пор, что бы ни случилось днем, Марк спал хорошо, но в эту ночь он спать не мог. Письма он не написал и весь день слонялся, скрываясь от людей. Ночью, лежа без сна, он ощутил свои страхи с новой силой. Конечно, в теории он был материалистом; конечно (тоже в теории) он давно вышел из возраста ночных страхов. Но сейчас это ему не помогло. Тех, кто ищет в материализме защиты (а их немало), ждет разочарование. Да, то, чего вы боитесь – немыслимо. Что ж, лучше вам с этого? Нет. Так как же? Если уж видишь духов, лучше в них верить.
Чай принесли раньше, чем всегда, а с ним – и записку. Уизер настоятельно просил зайти к нему немедленно по чрезвычайно срочному делу. Марк пошел.
В кабинете была Фея. К удивлению и (сперва) к радости Марка, ИО, по всей видимости, не помнил об их последнем разговоре. Он был вежлив, даже ласков, но очень серьезен.
– Доброе утро, доброе утро, м‑р Стэддок, – сказал он. – Я ни за что на свете не стал бы вас беспокоить, если бы не был уверен, что вам самому лучше узнать обо всем как можно раньше. Вы понимаете, конечно, что разговор наш сугубо конфиденциален. Тема его не совсем приятна. Надеюсь, в ходе беседы вы поймете (садитесь, садитесь), как мудро мы поступили в свое время, оградив от постороннего вмешательства нашу полицию, если можно ее так назвать.
Марк облизнул губы и присел.
– Ты потерял бумажник, Стэддок, – вдруг обратилась к нему Фея.
– Что? – переспросил Марк. – Бумажник?
– Да. Бумажник. Штуку, в которой лежат всякие бумажки.
– Потерял. Вы его нашли?
– В нем три фунта десять шиллингов денег, корешок от почтового перевода, письма, подписанные именами Миртл, Дж.Хитоншоу, Ф.Э.Браун, М.Бэлчер, и счет за костюм от мастерской «Саймонс и Сын», Маркет‑стрит, 32, Эджстоу? Так?
– Примерно так.
– Вот он, – она указала на стол. – Нет, не бери!
– Что происходит? – спросил Марк тем голосом, каким говорил бы всякий при подобных обстоятельствах и который в полицейском протоколе назвали бы «угрожающим».
– Этот бумажник, – пояснила мисс Хардкастл, – обнаружен за пять с небольшим ярдов от тела Хинджеста.
– Господи! – вскричал Марк. – Вы же не думаете… нет, чепуха какая!
– Незачем апеллировать ко мне, – сказала мисс Хардкастл. – Я не адвокат, не судья, не присяжный. Я излагаю факты.
– Но вы считаете, что меня могут обвинить?!
– Напротив, – сказал Уизер. – Перед нами один из тех случаев, когда особенно очевидна польза собственной исполнительной власти. Перед нами ситуация, которая, как мне это ни прискорбно, могла бы доставить вам множество огорчений, имей вы дело с обычной полицией. Не знаю, достаточно ли ясно дала вам понять мисс Хардкастл, что бумажник нашли ее подчиненные.
– Что вы хотите сказать? – переспросил Марк. – Если мисс Хардкастл не считает, что я виноват, зачем все эти разговоры? Если считает, почему не сообщит, куда надо? Это ее долг.
– Дорогой мой друг, – промолвил Уизер допотопным тоном. – В делах такого рода мы и в малейшей степени не намерены определять предел правомочий нашей, институтской полиции. Я не беру на себя смелости утверждать, в чем состоит долг мисс Хардкастл.
– Значит, – сказал Марк, – у мисс Хардкастл, по ее мнению, достаточно фактов для моего ареста, но она любезно предлагает их скрыть?
– Усек! – отметила Фея и, впервые на его памяти, закурила свою сигару.
– Но я не хочу этого! – продолжал он. – Я ни в чем не виноват. – Бремя свалилось с него, но он, почти не замечая этого, гнул в другую сторону. – Я сам пойду в настоящую полицию.
– Хочешь сесть, – сказала Фея, – дело твое.
– Я хочу оправдаться, – кипятился Марк. – Обвинение немедленно рассеется. Зачем мне его убивать? И алиби у меня есть, я был здесь, спал.
– Да?.. – протянула Фея.
– Что такое?
– Знаешь ли, мотив найдется всегда. Всякий может убить всякого. Полицейские – люди как люди. Запустят машину, надо же им что‑нибудь доказать.
Марк уговаривал себя, что ему не страшно. Если бы только Уизер не топил ??ак жарко, или хоть открывал окно…
– Вот письмо, – сказала Фея.
– Какое письмо?
– Твое. Какому‑то Палему, из вашего Брэктона. Написано полтора месяца назад. Вот, пожалуйста: «А Ящеру пора в лучший мир».
Марк вспомнил, и ему стало просто физически больно. То была записочка, и такой стиль очень ценили «свои» люди.
– Как оно к вам попало? – спросил Марк.
– Мне представляется, м‑р Стэддок, – сказал Уизер, – что вы не вправе требовать от мисс Хардкастл подобных разъяснений… Конечно, это ни в малой степени не опровергает моих постоянных заверений в том, что все сотрудники института живут поистине единой жизнью. Однако, неизбежно существуют различные сферы, не ограниченные друг от друга, но выявляющие собственную сущность, тесно связанную, конечно, с эгосом целого… и некоторая излишняя откровенность… э‑э‑э… наносила бы урон нашим же интересам.
– Неужели вы думаете, – возмутился Марк, – что эту записку можно принять всерьез?
– А ты что‑нибудь объяснял полицейскому, – спросила Фея, – твоему, настоящему?
Марк не ответил.
– Алиби тоже никуда, – продолжала мисс Хардкастл. – Ты говорил с Биллом за столом. Когда он уезжал, вас видели вместе у выхода. Как ты вернулся, никто не видел. Вообще, неизвестно, что ты делал до самого утра. Мог уехать с ним и лечь так в 2:15. Ночью понимаешь, подморозило. Грязи на ботинках могло и не быть.
Как в былое время, в приемной у зубного врача или перед экзаменом, все сместилось, и Марку уже мерещилось, что тюрьма и эта закрытая комната, собственно, одно и то же. Главное – вырваться на воздух, от кряканья ИО, Феиной сигары, огромного портрета на стене.
– Вы советуете мне, сэр, – сказал он, – не идти в полицию?
– В полицию? – удивился Уизер, словно об этом и речи не было. – Это было бы, по меньшей мере, опрометчиво, м‑р Стэддок… и не совсем порядочно по отношению к своим коллегам, особенно к мисс Хардкастл. Мы не могли бы в дальнейшем оказывать вам помощь…
– Именно, – подчеркнула Фея. – Если ты в полиции – ты в полиции.
Минута решимости ушла, и Марк этого не заметил.
– Что же вы предлагаете? – спросил он.
– Я? – переспросила Фея. – Ты скажи спасибо, что это мы нашли бумажник.
– Это исключительно счастливая случайность, – произнес Уизер, – и не только для м‑ра Стэддока, но и для всего института. Мы не могли бы оставаться в стороне…
– Одно жаль, – сказала Фея. – У нас не твоя записка, а копия. Конечно, и то хлеб.
– Значит, сейчас ничего нельзя сделать? – спросил Марк.
– В настоящее время, – сказал Уизер, – вряд ли возможны какие‑либо официальные действия. Но все же я бы вам советовал в ближайшие месяцы соблюдать… ээ… крайнюю осторожность. Пока вы с нами, Скотланд‑Ярд вряд ли сочтет удобным вмешиваться без совершенно явных улик. Вполне вероятно, что они захотят помериться с нами силами, но я не думаю, что они воспользуются именно этим случаем.
– А вы не собираетесь искать вора? – осведомился Марк.
– Вора? – спросил Уизер. – У меня нет сведений о том, что тело ограблено.
– Того, кто украл бумажник.
– Ах, бумажник!.. Понятно, понятно… Следовательно, вы обвиняете в краже одного или нескольких сотрудников института?..
– Да, Господи! – вскричал Марк. – А сами вы что думаете? Вы думаете, я там был? Может, я и убил?
– Я очень попросил бы вас не кричать, м‑р Стэддок, – перебил его ИО. – Прежде всего, это невежливо, особенно при даме. Насколько мне помнится, никаких обвинений мы не выдвигали. Лично я пытался порекомендовать вам определенную линию поведения. Я уверен, что мисс Хардкастл со мной согласна.
– Мне все одно, – процедила Фея. – Не знаю, чего он орет, когда мы хотим его выручить, но дело его. Некогда мне здесь околачиваться.
– Нет, вы поймите… – начал Марк.
– Прошу вас, возьмите себя в руки, м‑р Стэддок, – сказал Уизер. – Как я уже неоднократно говорил, мы – единая семья, и не требуем от вас формальных извинений. Все мы понимаем друг друга и одинаково не терпим… э‑э‑э… сцен. Со своей же стороны позволю себе заметить, что нервная неустойчивость навряд ли вызовет благоприятную реакцию у нашего руководства.
Марк давно перестал думать о том, возьмут его или нет, но сейчас понял, что увольнение равносильно казни.
– Простите, сорвался, – оправдывался он. – Что же вы мне советуете?
– Сиди и не рыпайся, – отчеканила Фея.
– Мисс Хардкастл дала вам превосходный совет, – сказал ИО. – Здесь вы у себя дома, м‑р Стэддок, у себя дома.
– Да, кстати, – отметил Марк. – Я не совсем уверен, что жена приедет – она прихворнула…
– Я забыл, – сказал ИО, и голос его стал тише, – поздравить вас, м‑р Стэддок. Теперь, когда вы видели Его, мы ощущаем вас своим в более глубоком смысле. Несомненно, вы не хотели бы оскорбить его дружеские… да что там, отеческие чувства… Он очень ждет м‑сс Стэддок.
– Почему? – неожиданно для самого себя спросил Марк.
– Дорогой мой, – отвечал Уизер, странно улыбаясь, – мы стремимся к единству. Семья, единая семья… Вот, мисс Хардкастл скучает без подруги. – И прежде, чем Марк опомнился, он встал и зашлепал к дверям.
Марк закрыл за собой дверь и подумал: «Вот, сейчас. Они оба там». Он кинулся вниз, выскочив во двор, не задерживаясь у вешалки, быстро пошел по дорожке. Планов у него не было. Он знал одно: надо добраться до дому и предупредить Джейн. Он даже не мог убежать в Америку – он знал из газет, что США горячо одобряют работу ГНИИЛИ. Писал это какой‑то бедняга вроде него. Но это была правда – от института нельзя скрыться ни на корабле, ни в порту, нигде.
Когда он дошел до тропинки, там, как и вчера, маячил высокий человек, что‑то напевая. Марк никогда не дрался, но тело его было умней души, и удар пришелся прямо по лицу призрачного старика. Вернее, удара не было. Старик исчез.
Сведущие люди так и не выяснили, что же это означало. Марк крайне изумился, что ИО просто мерещился ему. Быть может, сильная личность в полном разложении обретает призрачную вездесущность (чаще это бывает после смерти). Быть может, наконец, душа, утратившая благо, получает взамен, хотя и на время, суетную возможность умножаться в пространстве. Как бы то ни было, старик исчез.
Тропинка пересекала припорошенное снегом поле, сворачивала налево, огибала сзади ферму, ныряла в лес. Выйдя из лесу, Марк увидел вдалеке колокольню; ноги у него горели, он проголодался. На дороге ему повстречалось стадо коров, они пригнули головы и замычали. Он перешел по мостику ручей и, миновав еще один луг, добрался до Кеннингтона, откуда ходил автобус.
По деревенской улице ехала телега. В ней, между матрасами, столами и еще какой‑то рухлядью, сидела женщина и трое детей, один из которых держал клетку с канарейкой. Вслед за ними появились муж и жена с тяжко нагруженной коляской; потом – машина. Марк никогда не видел беженцев, иначе он сразу понял бы, в чем дело.
Поток был бесконечен, и Марк с большим трудом добрался до автобусной станции. Автобус на Эджстоу шел только в 12:15. Марк стал бродить по площадке, ничего не понимая – обычно в это время в деревне было очень тихо. Но сейчас ему казалось, что опасность – только в Беллбэри. Он думал то о Джейн, то о яичнице, то о черном, горячем кофе. В половине двенадцатого открылся кабачок. Он зашел туда, взял кружку пива и бутерброд с сыром.
Народу там почти не было. За полчаса, один за другим, вошли четыре человека. Поначалу они не говорили о печальной процессии, тянувшейся за окнами; они вообще не говорили, пока человек с лицом, похожим на картошку, не обронил в пространство: «А я вчера Рэмболда видел». Никто не отвечал минут пять, потом молодой парень отметил: «Наверное, сам жалеет». Разговор о Рэмболде шел довольно долго, прежде чем хоть как‑то коснулся беженцев.
– Идут и идут, – сказал один.
– Да уж… – подтвердил другой.
– И откуда берутся… – удивился третий.
Понемногу все прояснилось. Беженцы шли из Эджстоу. Одних выгнали из дому, других разорил бунт, третьих – восстановление порядка. В городе, по всей видимости, царил террор. «Вчера, говорят, штук двести посадили», – сказал кабатчик. «Да, ребята у них… – заметил парень. – Даже моему старику въехали…» – он рассмеялся. «Им что рабочий, что полицейский», – сказал первый, с картофельным лицом. На этом обсуждение застопорилось. Марка очень удивило, что никто не выражал ни гнева, ни сочувствия. Каждый знал хотя бы одного беженца, но все соглашались в том, что слухи преувеличены. «Сегодня писали, что все уже хорошо», – сказал кабатчик. «Кому‑нибудь всегда плохо», – проронил картофельный. «А что с того? – сказал парень. – Дело, оно дело и есть». «Вот я и говорю, – заключил кабатчик. – Ничего не попишешь». Марк слышал обрывки собственных статей. По‑видимому, он и ему подобные работали хорошо; мисс Хардкастл переоценила сопротивляемость «простого народа».
Автобус оказался пустым, все двигались ему навстречу. Марк вышел на Маркет‑стрит и поспешил к дому. Город совершенно изменился. Каждый третий дом был пустым, многие витрины – заколочены. Когда Марк добрался до особняков с садиками, он увидел почти на всех белые доски, украшенные символом ГНИИЛИ – голым атлетом с молнией в руке. На каждом углу стоял институтский полисмен в шлеме, с дубинкой и с револьвером на ремне. Марк надолго запомнил их круглые, белые лица, медленно двигающиеся челюсти (полицейские жевали резинку). Повсюду висели приказы с подписью: «Фиверстоун».
А вдруг и Джейн ушла? Он почувствовал, что не вынесет этого. Задолго до дома он проверил, в кармане ли ключ. Дверь была заперта. Значит, Хатджинсонов с первого этажа нет. Он отпер дверь и вошел. На лестнице было холодно, на площадке – темно. «Джейн!» – крикнул он, входя в квартиру и уже не надеясь ни на что. На коврике, еще перед дверью, он увидел пачку нераспечатанных писем. Внутри все было прибрано. Кухонные полотенца не сохранили ни капли влаги, хлеб в корзине зацвел, молоко давно скисло. Уже все поняв, он продолжал бродить по комнатам, тихим и трогательным, как все покинутые жилища. Он сердился; он искал записку; он просмотрел письма, но почти все были от него. Вдруг, в передней, он заметил надорванный конверт письма, адресованного м‑сс Димбл, туда, в ее домик. Значит, она была здесь! Эти Димблы всегда его недолюбливали. Наверное, увезли Джейн к себе. Надо пойти к Димблу, в его колледж.
От этого решения ему стало легче. После всего, что он испытывал, ему очень хотелось стать обиженным мужем, разыскивающим жену. По дороге в Нортумберлэнд он выпил. Увидев на «Бристоле» вывеску института, он чертыхнулся было и прошел мимо, когда вспомнил, что сам он – крупный сотрудник ГНИИЛИ, а не сброд, который теперь сюда не пускают. Они спросили его, кто он, и сразу стали любезны. Заказывая виски, он чувствовал, что вправе отдохнуть, и сразу же заказал еще. Гнев на Димблов усилился, прочие чувства смягчились. В конце концов, насколько лучше и вернее быть своим, чем каким‑то чужаком. Даже и сейчас… ведь нельзя всерьез принимать это обвинение! Так уж они делают дела. Уизер просто хочет покрепче привязать его к Беллбэри и заполучить туда Джейн. А что такого, в сущности? Не может же она жить одна. Если муж идет в гору, придется ей стать светской дамой. В общем, надо скорей увидеть этого Димбла.
Из ресторана он вышел, как сам бы это назвал, другим человеком. С некоторых пор и до последнего распутья человек этот появлялся в нем внезапно и побеждал на время все остальное. Так, кидаясь из стороны в сторону, пробивался сквозь молодость Марк Стэддок, еще не обретший личности…
– Прошу, – доктор Димбл отпустил последнего ученика и собирался домой.
– Ах, это вы, Стэддок! – сказал он, когда тот вошел. – Прошу, прошу!
Он хотел говорить приветливо, но удивлялся и приходу Марка, и его виду. Марк потолстел, стал каким‑то землистым и пошловатым, что ли.
– Где Джейн? – спросил Марк.
– Я не могу вам сказать, – ответил Димбл.
– Вы не знаете?
– Я не могу сказать.
Согласно программе, именно сейчас Марк должен был вести себя, как мужчина. Что‑то изменилось. Димбл всегда держался с ним очень вежливо и всегда недолюбливал его. Марк не обижался, он не был злопамятным; он просто пытался ему понравиться. Он любил нравиться. Когда с ним бывали сухи, он мечтал не о мщении, а о том, как он очарует и пленит обидчика. Если он и бывал нелюбезным, то лишь к стоящим ниже, к чужакам, заискивающим перед ним. В сущности, он уже был недалек от подхалимства.
– Я вас не понимаю, – промолвил он.
– Если вы хотите, чтобы вашу жену не трогали, – сказал Димбл, – лучше не спрашивайте меня.
– Не трогали?
– Да, – очень серьезно отвечал Димбл.
– Кто?
– А вы не знаете?
– Что такое?
– В ночь бунта ее схватила институтская полиция. Они ее пытали, но она убежала.
– Пытали?!
– Да, жгли сигарой.
– В том‑то и дело, – поспешно заговорил Марк. – Она… у нее нервное истощение. Понимаете, ей померещилось…
– Врач, лечивший ожоги, думает иначе.
– О, Господи! – воскликнул Марк. – Неужели правда? Нет, посудите сами…
Димбл спокойно смотрел на него, и он умолк.
– Почему же мне не сообщили? – спросил он наконец.
– Кто, ваши коллеги? Странный вопрос. Вам виднее, чем они занимаются.
– Почему вы мне не сказали? Вы были в полиции?
– В институтской?
– Нет, в простой.
– Вы действительно не знаете, что в Эджстоу обычной полиции больше нет?
– Ну, есть какие‑нибудь судьи…
– Есть полномочный представитель, лорд Фиверстоун. Вижу, вы не понимаете. Город захвачен.
– Почему же вы не связались со мной?
– С вами? – переспросил Димбл, и на один миг, впервые в жизни, Марк увидел себя со стороны. От этого у него перехватило дыхание.
– Я знаю, – начал он, – вы меня всегда недолюбливали. Но не до такой же степени!..
Димбл молчал, но Марк не знал причины. Много лет он укорял себя за то, что не любит Марка; укорял и сейчас.
– Что ж, – сказал Марк. – Говорить не о чем. Я хочу знать одно: где Джейн.
– Вы хотите, чтобы ее забрали в Беллбэри?
– Не понимаю, по какому праву вы меня допрашиваете. Где моя жена?
– Я не могу вам сказать. Она не у меня и не под моим покровительством. Ей хорошо. Если вам есть еще до этого дело, лучше оставьте ее в покое.
– Что я, преступник, или заразный? Почему вы мне не скажете?
– Вы сотрудник института. Они ее пытали. Они не трогают ее только потому, что не знают, где она.
– Если виноват институт, неужели вы думаете, что я это так оставлю? За кого вы меня принимаете?
– Я могу только надеяться, что у вас еще нет большой власти. Если власти у вас нет, вы Джейн не защитите. Если же есть, вы – то же самое, что институт.
– Невероятно! – вскричал Марк. – Ну хорошо, я там работаю, но вы же меня знаете?!
– Нет, – сказал Димбл. – Не знаю. Что мне известно о ваших мыслях и целях?
Марку казалось, что он глядит на него не с гневом, даже не с презрением, а с брезгливостью, словно перед ним какая‑то мерзость, которую достойный человек не должен замечать. Марк ошибался. Димбл старался сдержать себя. Он изо всех сил старался не злиться, не презирать, а главное – не наслаждаться злостью и презрением.
– Тут какая‑то ошибка, – снова начал Марк. – Наверное, полисмен напился. Я разберусь, они у меня…
– Это была начальница вашей полиции, мисс Хардкастл.
– Прекрасно. Что ж вы думаете, я это так оставлю? Нет, тут ошибка.
– Вы хорошо знаете мисс Хардкастл? – спросил Димбл. Марк молча кивнул. Он думал (и ошибался), что Димбл читает его мысли и знает, что он ни в чем не сомневается и совершенно беспомощен перед Феей. Вдруг Димбл заговорил громче.
– Вы можете справиться с ней? – сказал он. – Вы так далеко продвинулись? Что ж, значит вы убили и Хинджеста и Комтона. Значит, по вашему приказу схватили и избили до смерти Мэри Прэскотт. Значит, по вашему приказу воров – честных воров, чьей руки вы не достойны коснуться – забрали из‑под власти судей и присяжных и перевели в Беллбэри, чтобы подвергнуть там унижениям и пыткам, которые у вас зовут лечением. Это вы изгнали из дому в болота и пустоши тысячи семей! Это вы скажете мне, где Плэйс и Роуди, и восьмидесятилетний Каннингем?! Если вы зашли так далеко, я не доверю вам не только Джейн, но и уличную собаку!
– Ну, что вы… – начал Марк. – Это просто странно. Я знаю, допущены какие‑то несправедливости. Так всегда бывает, особенно вначале. Но неужели я должен отвечать за все, что пишут в желтой прессе?
– В желтой прессе! – воскликнул Димбл, и Марку показалось, что он вырос. – Какая чушь! Вы думаете, я не знаю, что институт держит в руках все газеты, кроме одной? А она сегодня не вышла. Печатники забастовали. Говорят бедняги, что не станут печатать статьи против народного института. Вам виднее, чем мне, откуда идет газетная ложь.
Как ни странно, Марк, долго живший в мире, где не знают милосердия, почти не встречал истинного гнева. Он часто видел злобу, но выражалась она в гримасах, взглядах и жестах. Голос и глаза доктора Димбла поразили его. В Беллбэри вечно толковали о том, что враги «поднимут крик»; но он не представлял, как это выглядит на самом деле.
– Да ничего я не знаю! – заорал он в свою очередь. – Черт, это мою жену пытали, а не вашу!
– Могли пытать и мою. От них не защищен ни один англичанин. Они пытали женщину, человека. Важно ли, чья она жена?
– Сказано вам, я им всем покажу! И этой ведьме, и всем…
Димбл молчал. Марк понимал, что говорит чепуху, но остановиться не мог. Если бы он не кричал, он бы слишком растерялся.
– Да я сам от них уйду! – орал он.
– Вы серьезно? – спросил Димбл и посмотрел на него. Марку, в чьей душе бестолково метались обида, тщеславие, стыд и страхи, взгляд этот показался беспощадным. На самом деле в нем светилась надежда, ибо любовь всегда надеется. Была в нем и настороженность, и потому Димбл не сказал больше ничего.
– Я вижу, вы мне не доверяете, – возмутился Марк, и лицо его само собой приняло то достойное и оскорбленное выражение, которое помогало ему еще в школе, когда его вызывали к директору.
Димбл не любил лгать.
– Да, – кивнул он. – Не совсем доверяю.
Марк пожал плечами и отвернулся.
– Стэддок, – сказал Димбл. – Сейчас не время лукавить и льстить. Быть может, мы оба скоро умрем. Я не хочу умирать с любезной ложью на устах. Я вам не верю. Как могу я вам верить? Вы – больше ли, меньше ли – сотрудничаете с худшими в мире людьми. Ваш приход ко мне может оказаться ловушкой.
– Неужели вы меня так плохо знаете? – снова спросил Марк.
– Перестаньте говорить чепуху! – ответил Димбл. – Перестаньте позировать, хоть на одну минуту. Какое право вы имеете на такие слова? Кто вы? Они губили и лучших, чем мы с вами. Страйк тоже был порядочным человеком. Филострато хотя бы гений. Даже Алькасан – да, да, я знаю… – был просто убийцей – все же лучше, чем теперь. Почему же вам быть исключением?
Марк говорить не мог. Его трясло от мысли, что Димбл столько знает, и он уже ничего ни с чем не мог связать.
– И все‑таки, – продолжал Димбл, – я пойду на риск. Я поставлю на карту то, перед чем и ваша и моя жизнь ничего не значат. Если вы всерьез хотите уйти из института, я помогу вам.
На миг перед Марком приоткрылись райские врата; но он сказал:
– Я… я должен обдумать это.
– Некогда, – торопил Димбл. – И думать вам не о чем. Я предлагаю вам вернуться к людям. Решайте сейчас, сию минуту.
– Но ведь речь идет о моей будущей деятельности…
– Деятельности! – воскликнул Димбл. – Речь идет о гибели… или об единственном шансе на спасение.
– Я не совсем понимаю, – сказал Марк. – Вы все время намекаете на какую‑то опасность. В чем дело? От кого вы хотите защитить меня… или Джейн?
– Я не могу вас защитить, – пояснил Димбл. – Теперь никто не защищен, битва началась. Я предлагаю вам бороться вместе с теми, кто прав. Кто победит, я не знаю.
– Вообще‑то, – сказал Марк, – я и сам думал уйти. Но не все еще решено. Вы как‑то странно разговариваете. Можно, я зайду к вам завтра?
– Вы уверены, что тогда решитесь?
– Ну, через часок. В конце концов, это разумно. Вы не уйдете?
– Что изменит час? Вы просто надеетесь, что за это время разум ваш станет еще туманней.
– Но вы здесь будете?
– Если хотите, буду. Но толку от этого не будет.
– Я должен подумать, – оправдывался Марк. – Я хочу все обдумать. – И вышел, не дожидаясь ответа.
На самом деле он хотел выпить и закурить. Думал он и так слишком много. Одна мысль гнала его к Димблу, как гонит ребенка к взрослому невыносимый страх. Другая шептала: «Ты с ума сошел! Они тебя разыщут. Как он тебя защитит? Они тебя убьют». Третья заклинала не терять с таким трудом завоеванного положения, – ведь есть, должен быть какой‑то средний путь. Четвертая гнала от Димбла; и впрямь, Марку становилось плохо при одном воспоминании о его голосе. И он стремился к Джейн, и он сердился на Джейн, и хотел больше никогда не видеть Уизера, и хотел вернуться и все с ним уладить. Ему хотелось и безопасности, и небрежного благородства. Ему хотелось, чтобы Димблы восхищались его мужеством, а Беллбэри – его сообразительностью; ему хотелось, наконец, выпить еще виски. Начинался дождь, болела голова. А, черт! И почему у него такая наследственность? Почему его так плохо учили? Почему общество так глупо устроено? Почему ему так не везет?
Он пошел быстрее.
Когда он дошел до колледжа, дождь лил вовсю. У входа стояла машина, около нее топтались три человека в форменных плащах. Позже он вспоминал, как блестела мокрая клеенка. Кто‑то посветил фонариком ему в лицо.
– Простите, сэр, – услышал он. – Ваше имя.
– Стэддок, – ответил Марк.
– Марк Гэнсби Стэддок, – сказал полицейский. – Вы арестованы по обвинению в убийстве Вильяма Хинджеста.
Доктор Димбл ехал в Сент‑Энн очень недовольный собой, мучаясь мыслью о том, что будь он умнее или добрее с этим несчастным человеком, толку вышло бы больше. «Не сорвал ли я на нем гнев? – думал он. – Не был ли я самодоволен? Не сказал ли больше, чем нужно?» Потом, как обычно с ним бывало, недоверие к себе стало глубже. «А может, я просто не желал говорить прямо? Хотел унизить его, обидеть? Упивался своей добродетелью? Может, весь Беллбэри сидит в моей собственной душе? Таким бываю я – вспомнил он слова брата Лаврентия – всякий раз, что Ты оставишь меня на меня самого».
Выбравшись за город, он поехал медленно, почти ползком. Небо на западе стало алым, засверкали первые звезды. Далеко внизу, в долине, мерцали огоньки Кьюр Харди, и он подумал: «Слава Богу, хоть эта деревня далеко от Эджстоу». Белая сова мелькнула перед ним. И исчезла слева, в лесном полумраке, и он обрадовался, что уже темнеет. Приятная усталость окутала его, он предвкушал, как хорошо проведет вечер и как рано ляжет.
– Вот он! Ой, доктор Димбл! – закричала Айви Мэггс, когда он подъехал к воротам усадьбы.
– Не ставьте машину в гараж, – сказал Деннистоун.
– Сесил! – сказала жена, и он увидел, что она испугана. По‑видимому, его ждал весь дом.
Чуть позже, моргая от яркого света, он понял, что вечер хорошо не проведет. У очага сидел Рэнсом, на плече у него примостился барон Корво, у ног – м‑р Бультитьюд. Все поужинали, и жена с Айви Мэггс кормили м‑ра Димбла на краю кухонного стола.
– Ты ешь, ешь, – говорила м‑сс Димбл. – Они тебе сами все расскажут. Поешь как следует.
– Вам придется опять выйти, – сказала Айви Мэггс.
– Да, – подтвердил Рэнсом, – пришло время действовать. Мне очень жаль посылать вас, когда вы только что пришли, но битва началась.
– Повторяю, – вставил Макфи, – совершенно абсурдно посылать человека, который старше меня и работал целый день, когда мне абсолютно нечего делать.
– Нет, Макфи, – сказал Рэнсом, – вам идти нельзя. Во‑первых, вы не знаете языка. Во‑вторых – сейчас не время хитрить – вы никогда не препоручали себя защите Мальдедила.
– При таких обстоятельствах, – ответил Макфи, – я готов признать ваших эльдилов и существо, которое они считают своим царем. Я…
– Нет, – перебил его Рэнсом. – Я не пошлю вас. Это все равно, что посылать против танка трехлетнее дитя. Положите лучше карту вон там, Димбл посмотрит, пока ест. А теперь молчите. Итак, Димбл, под Брэгдонским лесом действительно покоился Мерлин. Да, он спал, если хотите. Пока еще нет оснований считать, что враг нашел его. Все поняли? Нет, подождите, ешьте. Вчера Джейн Стэддок видела самый важный из своих снов. В склеп ведут не ступеньки, а длинный пологий проход. А, понимаете теперь? Вот именно. Джейн думает, что можно найти вход – под кучей камней, в рощице… Что там такое, Джейн?
– Белые ворота, сэр. Простые ворота, с крестовиной наверху, она сломана. Я их узнаю.
– Видите, Димбл? Туннель выходит наружу за пределами институтской земли.
– Другими словами, мы можем попасть в лес как бы снизу?
– Вот именно. Но это не все.
Димбл, не переставая есть, посмотрел на него.
– По‑видимому, – продолжал Рэнсом, – мы почти опоздали. Он проснулся.
Димбл перестал есть.
– Джейн видела пустой склеп, – сказал Рэнсом.
– Значит, враг нашел его?
– Нет. Насколько можно понять, он проснулся сам.
– Господи! – прошептал Димбл.
– Ты ешь, дорогой, – сказала ему жена.
– Что же это значит? – спросил он, гладя ее руку.
– По‑видимому, это значит, что все запланировано очень давно, – ответил Рэнсом. – Мерлин вышел из времени, чтобы вернуться именно теперь.
– Вроде адской машины, – заметил Макфи. – Поэтому я…
– Вы не пойдете, Макфи, – сказал Рэнсом.
– Его уже там нет? – спросил Димбл.
– Сейчас, по‑видимому, нет, – ответил Рэнсом. – Повторите, пожалуйста, Джейн, что вы видели.
– В проходе был человек, – пояснила Джейн. – Огромный… Там темно, и я его не разглядела, но он тяжело дышал. Сперва я подумала, что это зверь. Я двигалась с ним по проходу, становилось все холодней, снаружи входил воздух. Проход кончался кучей камней, и человек начал их отбрасывать. А я оказалась вдруг снаружи. Тогда я и увидела ворота.
– Видите, – сказал Рэнсом, – похоже, что они еще не вошли с ним в контакт. Мы должны его перехватить. Это наш единственный шанс. А ворота, мне кажется, должны быть к югу от леса. Поищите сперва там, на Итонской дороге, где начинается шоссе на Кьюр Харди.
– Мы будем там через полчаса, – отозвался Димбл, не снимая ладони с руки м‑сс Димбл.
– Непременно надо идти сегодня? – смущенно спросила она.
– Надо, Маргарет, – сказал Рэнсом. – Если враг вступит с ним в связь, битва проиграна.
– Я понимаю, – согласилась м‑сс Димбл. – Простите.
– Если идет Джейн, – спросила Камилла, – можно идти и мне?
– Джейн ведет, – сказал Рэнсом. – А вы должны быть дома. Мы – все, что осталось от Логрского королевства. В вашем чреве – его будущее. Так вот, Димбл, ориентироваться, я думаю, он будет плохо…
– А… а если мы найдем его, сэр?
– Тут и начнется ваше дело, Димбл. Только вы знаете Язык. Он может узнать его, а не захочет – хотя бы поймет, кто перед ним. Но будьте очень осторожны. Не бойтесь, но и не поддавайтесь его чарам.
– Вот уж я бы… – начал Макфи.
– Вас он усыпит за десять секунд, – сказал Рэнсом.
– Что я должен говорить? – спросил Димбл.
– Что вы явились во имя Мальдедила, и всех эльдилов, и всех планет от того, кто восседает сейчас на престоле Пендрагонов и велит ему идти с вами.
Димбл, очень бледный, поднял голову, и великие слова полились из его уст. Сердце у Джейн сильно забилось. Все прочие сидели очень тихо – даже птица, кошка, медведь – и смотрели на него. Голос был им незнаком, словно речь лилась сама, или словно то была не речь, а совместное действие эльдилов и Пендрагона. На этом языке говорили до грехопадения, на нем говорят по ту сторону луны, и значения в нем соединены со звуками не случайно, и даже не по давней традиции, но сочетаются с ними воедино, как сочетается образ солнца с каплей воды. Это – сам язык, каким, по велению Мальдедила, возник он из живого серебра планеты, которую зовут на Земле Меркурием, на небе – Виритрильбией.
– Спасибо, – молвил Рэнсом, и при этом знакомом слове домашнее тепло кухни вернулось к ним. – Если он с вами пойдет, прекрасно. Если не пойдет… что ж, Димбл, положитесь на свою веру. Препоручите свою судьбу Мальдедилу. Душу вы погубить не можете, во всяком случае, Мерлин не может погубить вашу душу.
– Я понимаю, – сказал Димбл, и все долго молчали.
– Не плачьте, Маргарет, – утешил ее Рэнсом. – Если они убьют Сесила, нам всем останется жить несколько часов. Вы больше пробудете в разлуке при нормальных обстоятельствах. А теперь, джентльмены, попрощайтесь с женами. Сейчас около восьми. Собираемся здесь, в четверть девятого.
– Хорошо, – отвечали Деннистоун и Димбл, а Джейн осталась на кухне с Айви, зверьми и двумя мужчинами.
– Согласны ли вы, – спросил ее Рэнсом, – повиноваться Мальдедилу?
– Сэр, – отозвалась Джейн. – Я ничего о нем не знаю. Я повинуюсь вам.
– Пока достаточно и этого, – сказал Рэнсом. – Небо милостиво: когда наша воля добра, оно помогает ей стать добрее. Но Мальдедил ревнив. Придет время, когда он потребует от вас все. А на сегодня – хорошо и так.
– В жизни не слышал такого бреда, – сказал Макфи.
11. ТРЕБУЕТСЯ МЕРЛИН
– Ничего не вижу, – сказала Джейн.
– Этот дождь все портит, – проворчал Димбл с заднего сиденья. – Мы еще на Итонской дороге, Артур?
– Вроде бы, да, – отозвался Деннистоун.
– Ой, смотрите! – воскликнула Джейн.
– Не вижу никаких ворот, – сказал Димбл.
– Что, огонь? – осведомился Деннистоун.
– Да это же костер!..
– Какой костер?
– Я видела костер в рощице. Да, я не ска??ала о нем, забыла! Только сейчас вспомнила. Это был самый конец. И самое важное. Он там сидел, Мерлин. Сидел у костра в роще, когда я вышла из‑под земли. Ой, скорей! Там и ворота, это близко.
Все двинулись за ней и открыли ворота, и вышли на какой‑то луг. Димбл молчал. Ему было стыдно, что он боится до дурноты. Быть может, он лучше многих представлял себе, что может случиться с ними.
Джейн шла первой, за ней Деннистоун, то и дело поддерживая ее и светя фонариком под ноги. Говорить не хотелось никому.
Сразу, как только они сошли с дороги, все изменилось, словно начался не истинный, а призрачный мир. Каждую секунду казалось, что рядом пропасть. Шли они по тропинке, вдоль изгороди, и мокрые ветви, как щупальца, цеплялись за них. Все, что ни появлялось в маленьком круге света – клочья травы, лужицы, листья, прилипшие к обломанным сучкам, желто‑зеленые глазки каких‑то небольших тварей – было проще, обычней, чем могло быть, словно притворилось на минуту и снова сбросит личину, оставшись в темноте. Кроме того, все казалось слишком маленьким перед холодной, исполненной звуков мглой.
Страх, который Димбл испытал сразу, стал проникать в души Джейн и Деннистоуна, как проникает вода в пробоину судна. Они только сейчас поняли, что не верили в Мерлина по‑настоящему. Тогда, на кухне, им казалось, что они верят Рэнсому, но это было не так. Страшное еще ожидало их. Только здесь, в темноте, они полностью ощутили, что кто‑то умер и не умер, что кто‑то вышел из тьмы, разделяющей древний Рим и начало Англии. «Темные века», – думал Димбл; как легко было прежде и читать это, и писать. Теперь сама Тьма лежала перед ними. В страшной лощине их поджидало давно ушедшее столетье.
Вдруг вся Британия, которую он так хорошо знал, живьем встала перед ним. Он увидел маленькие города, на которых лежал отсвет Рима – Камальдунум, Карлеон, Глестонбэри: церковка, одна‑две виллы, кучка домов, насыпь; а за ней, почти от самых ворот – мокрые, густые леса, устланные листьями, которые падали на эту землю еще до того, как Британия стала островом. Волки, прилежные бобры, огромные болота и глаза в чаще – глаза тех, кто жил здесь не только до Рима, но и до самой Британии, древних, несчастных, обездоленных существ, превратившихся в эльфов, чудищ, лесовиков позднейшего предания. Но еще хуже, чем леса, были места без леса – маленькие вотчины забытых королей; общины и сообщества друидов; стены, замешанные на младенческой крови. Этот век, вырванный из своей эпохи и ставший потому стократ ужасней, двигался им навстречу и через несколько минут должен был их поглотить.
Они уткнулись в изгородь и несколько минут, светя фонариком, отцепляли от веток волосы Джейн. Поле кончилось. Отсюда огонь был виден плохо, но все же можно было заметить, что он то разгорается, то гаснет. Оставалось искать калитку или дверцу. Они нашли какие‑то воротца, которые были закрыты, но не заперты. Здесь уже была снова низина, они хлюпали по воде. Пришлось немного подняться, огонь исчез, а когда он стал виден, то почему‑то оказался слева и довольно далеко.
До сих пор Джейн не удавалось представить, что же их ждет. Теперь сцена на кухне стала обретать смысл. Он велел мужчинам попрощаться с женами. Значит… значит по этому мокрому полю они идут к смерти. Столько слышишь о ней (как о любви), поэты о ней пишут, а она вот какая. Но не это главное. Джейн попыталась увидеть все иначе, так, как видят ее новые друзья. Она давно не сердилась, что Рэнсом распоряжается ею, и еще отдает при этом в одном смысле – Марку, в другом – Мальдедилу, ничего не оставляя себе самому. Это она приняла. О Марке она думала мало, ибо мысли о нем все чаще вызывали в ней жалость и раскаяние. А вот Мальдедил… До этих минут она и не думала о нем. Она верила в эльдилов, верила и в то, что они кому‑то подчиняются, как и Рэнсом, и весь дом, даже Макфи. Она никак не связывала все это с тем, что зовется «религией». Пропасть между конкретными, страшными вещами и, скажем, молитвой матушки Димбл была слишком велика. Одно дело – ужас ее снов, радость послушания, свет из‑под синей двери, великая борьба; совсем другое – церковный запах, кошмарные литографии (Христос метра в два ростом, похожий на умильную барышню), непонятные уроки Закона Божьего, суетливая ласковость священников. Но сейчас, если рядом смерть, нужно свести все это воедино. В конце концов, случиться могло все, что угодно. Мир оказался совсем не таким, как она думала, и она не удивлялась уже ничему. Очень может быть, что Мальдедил – просто Бог. Может быть, есть жизнь после смерти, рай, преисподняя. Мысль эта мелькнула в ее сознании, словно искра, и снова все спуталось, но и этого было достаточно, чтобы она воспротивилась – «Нет, не могу, почему же мне раньше не сказали!» Ей не пришло в голову, что она бы и слушать такого не стала.
– Смотрите, Джейн, – сказал Деннистоун. – Дерево.
– По‑моему, – сказала Джейн, – это скорее овца.
– Нет. Это дерево. А вон еще одно.
– Да, – сказал Димбл. – Это ваша роща. Мы почти у места.
Земля перед ними шла вверх еще ярдов двадцать, потом холм обрывался. Теперь они видели лесок, а кроме того, каждый различил бледные, мерцающие лица своих спутников.
– Я пойду первым, – сказал Димбл.
– Как я вам завидую, что вы не боитесь! – сказала Джейн.
– Тише, прошу вас!.. – прошептал он.
Они осторожно дошли до обрыва и остановились. Внизу, в ложбинке, горели довольно большие поленья. Вокруг росли кусты, и пляшущие тени мешали все рассмотреть. Кажется, за костром стоял шалаш; Деннистоуну показалось, что он видит и перевернутую тележку. Впереди, между ними и костром, стоял котелок.
– Есть там кто‑нибудь? – тихо спросил Димбл.
– Не знаю, – ответил Деннистоун. – Подождите минутку.
– Смотрите! – указала рукой Джейн. – Вон там, где пламя отнесло ветром!
– Что? – спросил Димбл.
– Вы не видите?
– Ничего не вижу.
– Кажется, я вижу человека, – кивнул Деннистоун.
– Да, вроде бы бродяга, – разглядел наконец Димбл. – То есть, в современной одежде.
– Какой он с виду?
– Не знаю.
– Надо идти вниз, – решительно заявил Димбл.
– А можно тут спуститься? – с сомнением произнес Деннистоун.
– Не с этой стороны, – ответил Димбл. – Мне кажется, правее есть тропинка. Пойдем опять вдоль изгороди, пока не наткнемся на нее.
Они говорили тихо, огонь трещал все громче, дождь перестал. Осторожно, словно солдаты в лесу, они стали пробираться от дерева к дереву.
– Стойте! – вдруг прошептала Джейн.
– В чем дело?
– Кто‑то шевелится.
– Где?
– Внизу. Совсем близко.
– Я ничего не слышал.
– Теперь ничего и нет.
– Идемте дальше.
– Вы что‑нибудь слышите, Джейн?
– Нет, сейчас тихо.
Они прошли еще несколько шагов.
– Стой! – скомандовал Деннистоун. – Джейн права. Там кто‑то есть…
– Заговорить мне? – спросил Димбл.
– Подождите немного. Да, есть. Смотрите! Ах ты, да это ослик…
– Так я и думал, – сказал Димбл. – Это бродяга, лудильщик… Вот его ослик. А все же спуститься надо.
Они двинулись дальше и вышли на заросшую тропинку. Шла она петлей, и все же шалаш или палатку уже не загораживал костер.
– Вот он, – сказала Джейн.
– Да, вижу, – отозвался Деннистоун. – Действительно, бродяга. Видите его, Димбл? Старик с бородой, в старой куртке и в черных штанах. Вон, ногу вытянул, пальцы торчат из башмака!
– Вон там? – переспросил Димбл. – Я думал, это бревно. Но у вас зрение лучше. Вы уверены, что это человек?
– Вроде бы, да. Не знаю, глаза устали. Слишком тихо он сидит. Если это человек, то он заснул.
– Или умер, – сказала Джейн, резко вздрогнув.
– Что ж, – сказал Димбл. – Идемте вниз.
Меньше, чем за минуту, они спустились вниз. Палатка там была, и какое‑то тряпье в палатке, и жестяная тарелка, и несколько спичек, и кучка табаку, но человека не было.
– Я вот чего не понимаю, – раздраженно сказала Фея. – Что вы над ним трясетесь? То вы так, то сяк! Разводили тут про убийство, теперь он сидит в одиночке, а толку‑то? Может, сработает, а может – и нет. Да я бы его за двадцать минут расколола! Видали мы таких!
Так говорила Фея Уизеру той же ненастной ночью, часов в двенадцать. Был с ними и третий, профессор Фрост.
– Уверяю вас, мисс Хардкастл, – сказал ИО, глядя поверх Фроста, – ваши мнения всегда вызывают у меня живейший интерес. Но, если я вправе так выразиться, перед нами – один из тех случаев, когда… э‑э‑э… принудительные собеседования привели бы к нежелательным результатам.
– Почему это? – угрюмо осведомилась Фея.
– Простите, если я вам напомню, – сказал Уизер, – не потому, что вы не знали, нет, из чисто методологических соображений: нам нужен не он. Я хочу сказать, мы все будем рады увидеть среди нас м‑сс Стэддок, главным образом – в связи с ее поразительными психическими способностями. Конечно, употребляя слово «психический», я не отдаю предпочтения никакой гипотезе.
– В общем, сны, – конкретизировала Фея.
– Можно предположить, – продолжал Уизер, – что на нее оказало бы нежелательное действие, если бы мы доставили ее насильно, а здесь она обнаружила, что ее муж находится в… э‑э‑э… не совсем естественных, хотя и временных, условиях, неизбежно связанных с вашим методом исследования. Искомая способность могла бы исчезнуть.
– Мы еще не слышали донесения, – спокойно заметил Фрост. – Прошу вас, майор.
– Все к собакам, – лаконично заявила Фея. – Поехал он в Нортумберлэнд. После него оттуда вышли три человека: Ланкастер, Лили и Димбл. Перечисляю по значимости. Ланкастер – верующий, и большая шишка. В родстве со всякими епископами. Черт‑те сколько написал. Лили – вроде того, но потише. Правда, сами помните, в прошлом году он нам попортил кровь в этой комиссии насчет высших школ. В общем, люди опасные. Деловые, что называется. Димбл – не то. Божья коровка. Против него ничего и не скажешь, знает только свою науку, и все. Не такой он знаменитый… ну, может, разве у этих, филологов. Хватки нет, совести – завались, в общем – толку от него мало. Те двое ему не чета, те кой‑чего смыслят, особенно Ланкастер. Такого и нам заполучить не грех, если б не эти… взгляды.
– Вы могли бы сообщить майору Хардкастл, – сказал Фрост, – что эти характеристики нам известны.
– Действительно, – сказал Уизер, – поскольку час поздний… мы не хотели бы переутомлять вас, мисс Хардкастл… Не перейдете ли вы к более существенным положениям вашего… э‑э‑э… доклада?
– Ладно, – кивнула Фея. – Людей у меня было мало. Сами знаете, спасибо, что мы вообще его увидели. Все у меня были заняты, пришлось обойтись, чем есть. Шесть человек я поставила у колледжа, в штатском, ясное дело. Потом трех, кто получше, послала за Ланкастером. Через полчаса получила телеграмму, что он уже в Лондоне. Может, там чего и найдут. С Лили я попотела. Ходил людям к пятнадцати. Всех взяли на заметку. Димбл вышел последний, у меня оставался один человек, и тут О'Хара звонит, людей ему надо. Ну, я решила, бог с ним, с Димблом. Каждый день ходит на службу, и вообще пустое место.
– Я не совсем понимаю, – сказал Фрост, – почему вы не послали людей в само здание.
– А из‑за вашего Фиверстоуна, – отпарировала Фея. – Нас теперь в колледжи не пускают, если хотите знать. Говорила я, не тот человек. Крутит. С университетом заигрывает. Помяните мое слово, вы еще с ним наплачетесь.
Фрост посмотрел на Уизера.
– Я ни в малейшей степени не стану отрицать, – сказал ИО, – что некоторые действия лорда Фиверстоуна вызывают у меня недоумение. Однако, мне было бы невыразимо тяжело предположить, что он…
– Стоит ли задерживать майора Хардкастл? – перебил его Фрост.
– Вы совершенно правы! – согласился Уизер. – Я чуть не забыл, моя дорогая мисс Хардкастл, как вы устали и как ценно ваше время. Вам совершенно ни к чему утруждать себя скучными мужскими делами.
– А может, – предложила Фея, – пустить к нему моих ребят? Так, слегка. Жаль, столько крутились, и никакой тебе радости.
Уизер, учтиво улыбаясь, стоял у дверей, и вдруг лицо его изменилось. Бледные полуоткрытые губы, седые завитки, блеклые глаза лишились какого бы то ни было смысла. Мисс Хардкастл показалось, что на нее смотрит маска. И она молча вышла из кабинета.
– Не кажется ли вам, – сказал Уизер, возвращаясь на свое место, – что мы придаем слишком большое значение жене этого Стэддока?
– Мы действуем согласно приказу от 1‑го октября, – ответил Фрост.
– О… я не о том… – промямлил Уизер.
– Разрешите напомнить вам факты, – продолжил Фрост. – Мы наблюдали полностью только один сон, очень важный, конечно, давший нам, хотя и не совсем точные, но ценные сведения. Тем самым, мы поняли, что злоумышленники могут использовать ее в своих целях.
– Я ни в малейшей мере не отрицаю…
– Это первое, – снова прервал Фрост. – Второе: ее со??нание стало менее прозрачным. К настоящему времени наука нашла этому одно объяснение. Так бывает, когда данное лицо попадает по собственной воле под влияние враждебной нам силы. Таким образом, мы не видим ее снов и знаем, что она – под чужим влиянием. Это опасно само по себе. Но это означает, что через нее мы можем попасть в штаб‑квартиру врага. По‑видимому, Хардкастл права: под пыткой он выдал бы адрес жены. Но, как вы сами сказали, если она увидит его в соответствующем состоянии, вряд ли мы сможем надеяться на сны. Это – первое возражение. Второе: нападать на врага очень опасно. По всей вероятности, они защищены, и против такой защиты у нас средств нет. Наконец, третье: он может и не знать адреса. В таком случае…
– Я был бы чрезвычайно огорчен, – сказал Уизер. – Научное исследование (я не принял бы слово «пытка») совершенно нежелательно, когда исследуемый ничего не знает. Если не прекратить опыта, он не оправится… если прекратить, останется чувство, что он все‑таки знал ответ…
– В общем, – выход один, – подытожил Фрост. – Пускай сам везет сюда жену.
– А не могли бы мы, – произнес Уизер еще отрешенней, чем обычно, – привлечь его к нам несколько сильнее?.. Я имею в виду, мой дорогой друг, истинную, глубокую перемену.
Фрост осклабился во весь свой большой рот, показывая белые зубы.
– Я предполагал к этому перейти, – кивнул он. – Я сказал «пускай везет жену». Возможностей для этого две: на низшем уровне (например, – страх или похоть), и на высшем, если он сольется с нашим делом и поймет, что нам надо.
– Вот именно… – подхватил Уизер. – Я бы выразился несколько иначе, но вы совершенно правы.
– А что вы собирались делать?
– Мы думали предоставить его на время самому себе… чтобы созрели… э‑э‑э… психологические плоды… Полагаемся мы – со всею гуманностью, конечно – и на небольшие неудобства… скажем, он не ел. Сигареты у него забрали. Нам бы хотелось, чтобы его сознание пользовалось только собственными ресурсами.
– Ясно. Что еще?
– Мы бы с ним побеседовали… Я не уверен, что следовало бы вмешиваться лично мне. Хорошо, если бы он подольше думал, что находится в полиции. Потом, конечно, следует ему сообщить, что он, собственно, у нас. Было бы желательно заметить, что это ничуть не освобождает его от обвинения…
– Да… – задумчиво протянул Фрост. – Плохо то, что вы полагаетесь только на страх.
– Страх? – переспросил ИО, будто никогда не слышал этого слова. – Я не вполне улавливаю ход вашей мысли. Насколько мне помнится, вы не поддержали мисс Хардкастл, когда она намекала на прямое вмешательство… если я ее правильно понял.
– А вы, наверное, хотели подсунуть ему таблетки?
Уизер тихо вздохнул и ничего не ответил.
– Ерунда, – отрезал Фрост. – Под влиянием стимуляторов мужчину тянет не к жене. Я говорю, нельзя полагаться на один страх. За много лет я пришел к выводу, что результаты его непредсказуемы, пациент может вообще утратить способность к действиям. Есть другие средства. Есть похоть.
– Я все же не совсем понимаю вас. Вы только что…
– Не те, посильнее…
Уизер на Фроста не глядел, но кто‑то из них постепенно двигал свой стул, и сейчас они сидели рядом, почти касаясь друг друга коленями.
– Я беседовал с Филострато, – тихо и четко выговорил Фрост. – Он бы понял меня, если бы знал. Присутствовал и ассистент, Уилкинс. Ни тот, ни другой не проявили интереса. Им важно одно: голова живет. Что она говорит, для них значения не имеет. Я зашел очень далеко. Я спрашивал их, почему же она мыслит, откуда берет сведения. Ответа не было.
– Вы полагаете, – сказал Уизер, – что мистер Стэддок окажется восприимчивее?
– Именно, – кивнул Фрост. – Вы‑то знаете, что нам нужна не столько власть над Англией, сколько люди, личности. Самая сердцевина человека, преданная делу, как мы с вами… Вот чего хотим мы, вот чего от нас требуют. Пока что мы немного добились.
– Вы считаете, Стэддок подойдет?
– Да, – подтвердил Фрост. Они с женой интересны, как пара, в генетическом отношении. Кроме того, человек такого типа не окажет сопротивления.
– Я всегда стремлюсь к единству, – изрек Уизер. – Я стремлюсь к возможно более тесным связям… э‑э‑э… переходящим, я бы сказал, пределы личности. К взаимопроникновению, к истинному поглощению… Словом, я с превеликой радостью приму… впитаю… вберу в себя этого молодого человека.
Теперь они сидели так близко, что лица их соприкасались, словно они вот‑вот поцелуются. Фрост подался вперед, пенсне его сверкало, глаз не было видно. Уизер обмяк, рот у него был открыт, губа отвисла, глаза слезились, как будто он сильно выпил. Плечи его мелко тряслись; вдруг он захихикал. Фрост лишь улыбался, но улыбка его становилась все холодней и шире. Он схватил Уизера за плечо. Раздался стук. Большой справочник упал на пол. Два старых человека раскачивались, крепко обхватив друг друга. И постепенно, мало помалу, начавшись от слабого визга, раздался нелепый, дикий, ни на что не похожий, скорее звериный, чем старческий смех…
Когда Марка вывели в дождь и тьму из полицейской машины и быстро затолкали в маленькую, ярко освещенную комнату, он не знал, что он в Беллбэри, а если бы и знал, не испугался бы, ибо думал не о том. Он был уверен, что его повесят.
Никогда еще он не смотрел в глаза смерти, и сейчас, взглянув на свою руку (он потирал руки, было холодно), он подумал, что вот эта самая рука, с желтым табачным пятном на указательном пальце, будет скоро рукой трупа, а потом – скелета. Ему даже не стало страшней, хотя на телесном уровне признаки страха были… Его потрясла немыслимость всего этого. Да, это было немыслимо, но совершенно реально.
Потом он вспомнил мерзкие подробности казней, сообщенные ему Феей, но этого сознание уже не вместило. Какие‑то смутные образы мелькнули перед ним и сразу исчезли. Вернулась главная мысль, мысль о смерти. Перед ним встала проблема бессмертия, но и она его не тронула. Причем тут будущая жизнь? Счастье в другом, бесплотном мире (ему не приходило в голову, что там может быть и несчастье) не утешало его. Важно было одно: его убьют. Это тело – слабое, жалкое, совершенно живое тело станет мертвым. Есть душа или нет – теперь неважно. Тело сопротивлялось, и больше ни для чего не оставалось места.
Марку стало трудно дышать, и он посмотрел, нет ли тут хоть какой вентиляции. Собственно, кроме двери и решетки здесь вообще ничего не было. Белый пол, белый потолок, белые стены, ни стула, ничего – и яркий свет.
Что‑то во всем этом подсказало ему правду; но мелькнувшая было надежда сразу угасла. Какая, в сущности, разница, избавятся они от него при помощи властей, или сами, как от Хинджеста? Теперь он понял, что с ним тут творилось. Конечно, все они – его враги, и они ловко играли на его страхах и надеждах, чтобы довести его до полного холуйства, а потом – убить, или если он не выдержит, или когда он отслужит свое. Как же он раньше не видел этого? Как мог он подумать, что чего‑нибудь добьется от этих людей?
Нет, какой же он был дурак, какой недалекий болван! Он сел на пол, ноги его не держали, словно он прошел двадцать пять миль. Почему он поехал в Беллбэри тогда, вначале? Неужели нельзя было понять из первого же разговора с Уизером, что здесь – ложь на лжи, интриги, грызня, убийства, а тем, кто проиграл, пощады нет? Он вспомнил, как Фиверстоун произнес «от романтики не вылечишь». Да, вот почему он поймался – Уизера хвалил Фиверстоун. Как же он поверил ему, когда у него акулья пасть, и он такой наглый, и никогда не глядит тебе в лицо? Джейн или Димбл раскусили бы его сразу. На нем просто написано: «подлец»! Купиться могут только марионетки, вроде Кэрри и Бэзби. Но ведь сам он, Марк, до встречи с Фиверстоуном не считал их марионетками. Очень ясно, сам себе не веря, он вспомнил, как льстило ему, что он стал для них своим. Еще труднее было поверить, что раньше, в самом начале, он глядел на них чуть ли не с трепетом и пытался уловить их слова, прячась за книгой, и мечтал, всей душой мечтал, чтобы кто‑нибудь из них сам подошел к нему. Потом, через несколько долгих месяцев, это случилось. Марк вспомнил, как он – чужак, стремящийся стать своим – выпивает и слушает гадости с таким восторгом, словно его допустили в круг земных царей. Неужели этому не было начала? Неужели он всегда был болваном? И тогда, в школе, когда он перестал учиться и чуть не умер с горя, и потерял единственного друга, пытаясь попасть в самый избранный круг? И в самом детстве, когда бил сестру за то, что у нее есть секреты с соседской девчонкой?
Он не мог понять, почему не видел этого раньше. Он не знал, что такие мысли часто стучались к нему, но он не впускал их, ибо тогда пришлось бы переделать заново все, с самого начала. ??ейчас запреты эти исчезли, потому что уже ничего нельзя было сделать. Его повесят. Жизнь окончена. Паутину можно смахнуть, ведь больше жить не придется, уже не нужно платить по счету, предъявленному истиной. Вероятно, Фрост и Уизер не предвидели, что испытание страхом смерти даст такой результат.
Никаких нравственных соображений у Марка сейчас не было. Он не стыдился своей жизни, он сердился на нее. Он видел, как сидит в кустах, подслушивая беседы Миртл с Памелой и не разрешая себе думать о том, что ничего интересного в них нет. Он видел, как убеждает себя, что ему очень весело со школьными кумирами, когда ему хотелось погулять с Пирсоном, которого так больно было бросить. Он видел, как прилежно читает похабщину и пьет, когда тянет к лимонаду и классикам. Он вспомнил, сколько сил и времени тратил на каждый новый жаргон, как притворялся, что ему что‑то интересно или известно, как отрывал от сердца почти все, к чему был действительно привязан, как унизительно уверял себя, что вообще можно общаться с теми, школьными, или с теми, в Брэктоне, или с этими, в ГНИИЛИ. Делал ли он когда‑нибудь то, что любил? Хотя бы ел, пил? Ему стало жалко себя.
В обычных условиях он бы свалил на что‑нибудь эту пустую, нечистую жизнь, и успокоился. Но сейчас ему не припомнилась ни система, ни комплекс неполноценности, в котором виноваты родители, ни нынешнее время. Он никогда не жил своими взглядами, они были связаны лишь с тем внешним обличьем, которое сейчас с него сползало. Теперь он знал, сам о том не думая, что он и только он выбрал мусор и битые бутылки, пустые жестянки, мерзкий пустырь.
Нежданная мысль посетила его – он подумал, что Джейн будет лучше, когда он умрет. Четыре раза в его жизни пустырю угрожало вторжение извне: Миртл в детстве, Пирсон в школе, Деннистоун в университете, и наконец – Джейн. Сестру он победил, когда стал гениальным братом, у которого такие друзья. Ее восторги и вопросы подстегивали его; но, пересадив этот цветок на пустырь, он утратил возможность мерить себя другой меркой. Пирсона и Деннистоуна он бросил. Теперь он знал, что собирался он сделать с Джейн: она должна была стать дамой из дам, к которой вхожи только самые избранные, да и те заискивают перед ней. Что ж, ей повезло… Теперь он знал, какие родники, и ручьи, и реки радости, какие лощины и луга, и зачарованные сады были от него скрыты. Он и сам не мог теперь проникнуть к ней, и ее не мог испортить. Она ведь из таких, как Пирсон, Деннистоун, Димбл – из тех, кто умеет просто любить, ни к чему не подлаживаясь. Она не похожа на него. Хорошо, что она от него избавится.
В эту минуту он услышал, как поворачивается ключ в скважине. Все мысли исчезли, остался только ужас. Марк вскочил и прислонился к стене рядом с дверью, словно мог спрятаться от того, кто войдет.
Вошел человек в сером костюме. Он посмотрел на Марка, но стекла пенсне скрыли его взгляд. Марк его узнал. Теперь он не сомневался, что находится в Беллбэри, но не это потрясло его. Профессор Фрост стал совсем другим. Все было прежним – и бородка, и белый лоб, и четкие черты, и холодная улыбка. Но Марк не мог понять, как же он не видел того, от чего убежал бы с воплем любой ребенок, а собака, глухо рыча, забилась бы в угол. Сама смерть была не так страшна, как мысль о том, что несколько часов тому назад он, в каком‑то смысле, верил этому человеку, искал его общества и даже убеждал самого себя, что с ним интересно.
12. НЕНАСТНАЯ НОЧЬ
– Здесь никого нет, – констатировал Димбл.
– Но ведь только что был, – удивился Деннистоун.
– Вы действительно кого‑то видели? – уточнил Димбл.
– Кажется, видел, – неуверенно отвечал Деннистоун.
– Тогда он не мог далеко уйти, – заключил Димбл.
– Может, кликнем его? – предложил Деннистоун.
– Тише! – сказала Джейн, и они замолчали.
– Там просто осел гуляет, – сказал через некоторое время Димбл. – Вон, наверху.
Они помолчали снова.
– Что тут с этими спичками? – заинтересовался Деннистоун, глядя на утоптанную землю у костра. – Зачем бродяге их разбрасывать?
– С другой стороны, – заметил Димбл, – не мог же Мерлин принести из из пятого века!
– Что же нам делать? – спросила Джейн.
– Страшно подумать, – невесело усмехнулся Деннистоун, – что скажет Макфи…
– Лучше нам сесть в машину и поискать белые ворота, – предложил Димбл. – Куда вы смотрите, Артур?
– На следы, – ответил Деннистоун, отошедший немного в сторону. – Вот! – Он посветил фонариком. – Здесь было несколько человек. Нет, не идите, затопчете. Смотрите. Неужели не видите?
– А это не наши следы?
– Нет, они не в ту сторону. Вот… и вот.
– Может, это бродяга?
– Если бы он пошел туда, мы бы его увидели, – возразила Джейн.
– Он мог уйти раньше, – предположил Деннистоун.
– Но мы же его видели! – напомнила Джейн.
– Пойдем по следу, – предложил Димбл. – Вряд ли мы зайдем далеко… Если следы оборвутся, вернемся на дорогу, будем искать ворота.
Вскоре глина сменилась травой, и следы исчезли. Они дважды обошли лощину, не нашли ничего и вернулись на дорогу. Было очень красиво, в небе сверкал Орион.
Уизер почти не спал. Когда это было необходимо, он принимал снотворное, но такое случалось нечасто, ибо и днем, и ночью он жил жизнью, которую трудно назвать бодрствованием. Он научился уводить куда‑то большую часть сознания и соприкасался с миром едва ли четвертью мозга. Цвета, звуки, запахи и прочие ощущения били по его чувствам, но не достигали души. Манера его, принятая с полвека тому назад, работала сама собой, как пластинка, и он препоручал ей и беседы с людьми, и рутину заседаний. Так слагалась изо дня в день знакомая всем личина, а сам он жил другой, собственной жизнью. Он достиг того, к чему стремились многие мистики – дух его освободился не только от чувств, но и от разума.
Итак, он не спал, когда Фрост покинул его и ушел к Марку. Всякий, кто заглянул бы в его кабинет, увидел бы, что он сидит за столом, склонив голову и сцепив руки. Глаза его не были закрыты. Но не было и выражения на лице, ибо находился он не здесь. Мы не знаем, страдал ли он там, наслаждался или испытывал что‑либо иное, что испытывают такие души, когда нить, связующая их с естественным течением жизни, натянута до предела, но еще цела. Когда у его локтя зазвонил телефон, он сразу снял трубку.
– Слушаю, – сказал он.
– Это Стоун, – послышалось в трубке. Мы нашли это место.
– Да?..
– Там ничего нет, сэр.
– Ничего нет?
– Да, сэр.
– Вы уверены, дорогой мой, что не ошиблись? Вполне допустимо…
– Уверен, сэр. Это склеп. Каменный, но есть и кирпич. В середине – возвышение, вроде кровати или алтаря.
– Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что там ничего нет и ничего не было?
– Нам показалось, сэр, что недавно туда лазали.
– Прошу вас, выражайтесь как можно точнее.
– Понимаете, сэр, там есть выход… такой туннель, он ведет к югу. Мы по нему пролезли. Он выходит наружу далеко, уже за лесом.
– Выходит наружу? Вы хотите сказать, что имеется вход… Отверстие или дверь?
– В том‑то и дело, сэр! Наружу мы вышли, но никаких дверей там нет. Похоже, что их взорвали. Точнее, вид такой, словно кто‑то оттуда вылетел. Мы совсем замучились.
– Так, так… Что вы делали, когда вышли?
– То, что вы сказали, сэр. Я собрал всех полицейских, какие поблизости, и послал их искать этого человека.
– А‑га, ага… Как же вы его описали?
– Точно так, как вы мне описывали, сэр: старик с длинной или грубо подстриженной бородой, в мантии или другой необычной одежде. Мне пришло в голову, сэр, что он может быть и без одежды.
– Почему же вам это пришло в голову?
– Видите ли, сэр, я не знаю, как долго он там пробыл, но я слышал, что одежда может рассыпаться при соприкосновении с воздухом. Вы не думайте, я понимаю, это дело не мое. Но мне показалось…
– Вы совершенно правильно полагаете, – сказал Уизер, – что малейшее любопытство с вашей стороны может привести к тяжелым последствиям. Для вас, для вас, ибо я пекусь о ваших интересах… учитывая ваше… э‑э‑э… щекотливое положение…
– Большое спасибо, сэр. Я очень рад, что вы со мной согласились насчет одежды.
– Ах, насчет одежды! Сейчас не время обсуждать этот вопрос. Что же вы приказали своим людям, если они найдут это… э‑э… лицо?
– С одной партией, сэр, я послал моего помощника, отца Дойла, он знает латынь. Кроме того, я позвонил инспектору Рэнгу, как вы мне сказали, и поручил ему несколько человек. В третью партию я включил нашего сотрудника, который знает уэльсский язык.
– Вы не подумали о том, чтобы самому возгл??вить одну из партий?
– Нет, сэр. Вы сказали, чтобы я сразу звонил, если что‑нибудь найдем. Я не хотел терять времени.
– Понятно, понятно… Что ж, ваши действия можно истолковать и так. Вы хорошо объяснили, как бережно, если вы меня понимаете, нужно обращаться с этим… э‑э‑э… лицом?
– Очень хорошо, сэр!
– М‑да… Что ж, в определенной степени я могу надеяться, что сумею представить ваши действия в надлежащем свете тем из наших коллег, чьего расположения вы столь неосмотрительно лишились. Вы меня поймите, мой дорогой! Если бы мне удалось склонить на вашу сторону, скажем, мисс Хардкастл или мистера Стэддока… убедить их в ваших… а… э… вам не пришлось бы беспокоиться о своем будущем и своей… э‑э… безопасности.
– А что мне сейчас делать, сэр?
– Мой дорогой друг, помните золотое правило. В том исключительном положении, к которому привели ваши прежние промахи, губительны лишь две ошибки: с одной стороны, вам ни в коей мере нельзя терять инициативы, предприимчивости. С другой стороны, малейшее превышение своих полномочий, малейшее нарушение границ вверенного вам круга действий может вызвать последствия, от которых я не сумею вас защитить. Если же вы избежите и той, и другой крайности, вам беспокоиться не о чем.
Не ожидая ответа, он повесил трубку и позвонил в звонок.
– Где ж эти ворота? – ворчал Димбл.
Дождь перестал, было много светлее, но ветер дул так сильно, что приходилось кричать. Живая изгородь, мимо которой они шли, металась на ветру, и ветви ее хлестали по звездам.
– Мне казалось, тут ближе, – ответил Деннистоун.
– И суше, – добавила Джейн.
– Правда, – заметил Деннистоун, останавливаясь, – здесь много камней. Мы не там, где были.
– Мне кажется, – мягко сказал Димбл, – мы там же. Когда мы вышли из рощицы, мы свернули немного левее, и я помню…
– А может, мы вылезли из лощины с другой стороны? – предположил Деннистоун.
– Если мы сейчас пойдем в другую сторону, – сказал Димбл, – мы будем кружить всю ночь. Не надо. В конце концов мы выйдем на дорогу.
– Ой! – воскликнула Джейн. – Что это?
Все прислушались. Из‑за ветра казалось, что быстрые, мерные удары раздаются далеко, но почти сразу большая лошадь пронеслась мимо них. Они отскочили к изгороди. Грязь из‑под копыт окатила Деннистоуна.
– Остановите ее! – крикнула Джейн. – Остановите! Скорей!
– Зачем? – поинтересовался Деннистоун, вытирая лицо.
– Крикните вы, м‑р Димбл. Пожалуйста! Вы не видите?
– Что я должен видеть? – с трудом выговорил Димбл, когда все они, заразившись волнением Джейн, побежали за лошадью.
– На ней человек, – произнесла Джейн, задыхаясь. Она совсем выбилась из сил и потеряла туфлю.
– Человек? – повторил Деннистоун. – Господи! Так и есть! Вон он, слева от нас…
– Мы его не догоним, – прохрипел Димбл.
– Стой! Мы друзья! – надрывался Деннистоун.
Димбл кричать не мог. Он был стар, утомился еще за день, а теперь с его сердцем происходило именно то, значение чего врачи объяснили ему несколько лет назад. Этого он не испугался; но кричать не мог, тем более – на древнем языке. Пока он стоял, пытаясь отдышаться, Деннистоун и Джейн снова воскликнули: «Смотрите!», и он увидел высоко, среди звезд, огромного коня, летящего через изгородь, и огромного человека на коне. Джейн показалось, что человек оглянулся, словно смеясь над ними. Грязь громко чавкнула, и перед ними остались только ветер и звезды.
– Вы в большой опасности, – произнес Фрост, заперев двери. – С другой стороны, перед вами открываются великие возможности.
– Значит, я не в полиции, а в институте, – констатировал Марк.
– Да. Но для вас опасность от этого не меньше. Скоро институт получит официальное право на ликвидацию. Он и сейчас им пользуется. Мы ликвидировали Хинджеста и Комтона.
– Если вы убьете меня, зачем этот фарс с обвинением?
– Прежде всего, попрошу вас: будьте строго объективны. Досада и страх – результат химических процессов, как и все наши реакции. Смотрите на свои чувства с этой точки зрения. Не давайте им уводить вас в сторону от фактов.
– Ясно, – процедил Марк. Ему было важно одно – во что бы то ни стало сохранить свой новый взгляд; а он ощущал, что где‑то шевелится прежнее неискреннее полудоверие.
– Обвинение мы включили в программу со строго определенной целью, – продолжал между тем Фрост. – Через такие испытания проходит всякий, прежде чем стать своим.
Сердце у Марка сжалось снова – несколько дней назад он проглотил бы любой крючок с такой наживкой. Только близость смерти дала ему увидеть, как все это мелко. То есть, сравнительно мелко… ведь и сейчас…
– Не вижу, к чему вы клоните, – сказал он.
– Подойдем объективно. Люди, связанные субъективными чувствами приязни или доверия, прочного круга не создадут. Как я уже говорил, чувства зависят от химических процессов. В принципе, их можно назвать уколами. Вы должны пройти серию противоречащих друг другу чувств к Уизеру и другим, чтобы дальнейшее сотрудничество вообще на чувствах не базировалось. Если уж выбирать, то более конструктивна неприязнь. Ее не спутаешь с так называемой сердечной привязанностью.
– Дальнейшее сотрудничество? – переспросил Марк, притворяясь, что обрадовался. Это было нетрудно. Прежнее состояние могло вот‑вот вернуться.
– Да, – кивнул Фрост. – Мы выбрали вас, как возможного кандидата. Если вы не пройдете испытаний, мы будем вынуждены вас ликвидировать. Я не играю на ваших страхах. Они смазали бы ход процесса. Сам процесс совершенно безболезненен, ваши же нынешние реакции – чисто физические.
Марк посмотрел на него и сказал:
– Это… это очень хорошо.
– Если хотите, – предложил Фрост, – я дам вам необходимую информацию. Начну с того, что линию института не определяем ни Уизер, ни я.
– Алькасан? – спросил Марк.
– Нет. Филострато и Уилкинс ошибаются. Несомненно, честь им и слава, что он не разложился. Но говорим мы не с ним.
– Значит, он и правда… мертв? – спросил Марк. Притворяться не пришлось, он действительно был очень удивлен.
– При нынешнем развитии науки на этот вопрос ответа нет. Быть может, он вообще не имеет смысла. Артикуляционный аппарат Алькасана используется другим разумом. Теперь слушайте внимательно. Вы, наверное, не слышали о макробах.
– О микробах? – удивился Марк. – Ну, что вы…
– Я сказал не «микробы», а «макробы». Слово говорит само за себя. Мы давно знаем, что существуют организмы ниже уровня животной жизни. Их действия всегда оказывали немалое влияние на людей, но о них ничего не знали, пока не изобрели микроскоп.
– И что же? – спросил Марк. Любопытство подмывало снизу его недавнюю решимость.
– Сообщу вам, что соответствующие организмы существуют и выше уровня животной жизни. Слово «выше» я употребляю не в биологическом смысле. Структура макроба весьма проста. Я имею в виду другое: они долговечней, сильнее и умнее животного мира.
– Умнее обезьян? – переспросил Марк. – Тогда это почти люди!
– Вы меня не поняли. В животный мир я, естественно, включаю и человека. Макробы умнее нас.
– Почему же мы с ними не общаемся?
– Мы общаемся. Но прежде это общение происходило нерегулярно и натыкалось на серьезные препятствия. Кроме того, умственный уровень человека не представлял тогда особого интереса для макробов. Общение, повторяю, было редким, но влиять на людей они влияли. На историю, скажем, они воздействовали гораздо больше, чем микробы. Теперь мы знаем, что всю историю следовало бы переписать. Истинные причины событий историкам неизвестны. Поэтому историю и нельзя считать наукой.
– Разрешите, я присяду, – попросил Марк и снова сел на пол. Фрост стоял прямо, опустив руки по швам.
– Мозг и артикуляционный аппарат Алькасана, – продолжал он, – служат проводниками в общении макробов с людьми. Круг, в который вас, быть может, примут, знает о сотрудничестве этих двух видов, которое уже сейчас создало совершенно новую ситуацию. Как вы увидите, этот скачок гораздо больше, чем превращение обезьяны в человека. Точнее будет сравнить его с возникновением жизни.
– Надо понимать, – вставил Марк, – что эти организмы благосклонны к людям?
– Если вы подумаете хотя бы минуту, – холодно ответил Фрост, – вы поймете, что ваше высказывание имеет смысл разве что на уровне грубейшего обыденного мышления. И добрые, и злые чувства – результат химических процессов. Они предполагают организм нашего типа. Первые же шаги к контакту с макробами покажут вам, что многие ваши мысли – вернее, то, что вы считали мыслями – побочный продукт чисто телесных процессов.
– Я хотел сказать, их цели совпадают с нашими?
– Что вы называете нашими целями?
– Ну… овладение природой… уничтожение войн… нищеты и других регрессивных явлений… в общем, сохранение и развитие человеческого рода.
– Не думаю, что псевдонаучный язык существенно меняет давно отжившую этику. Но к этому я вернусь позднее. Сейчас замечу, что сохранение человеческого рода вы трактуете неверно. Вы просто прикрываете обобщениями субъективные чувства.
– В конце концов, – уточнил Марк, – уже для одного овладения природой нужно очень много людей. Если же создается избыток населения, не войнами же его уменьшать!
– Ваша идея – пережиток условий, исчезающих на наших глазах, – остудил его Фрост. – Прежде действительно было необходимо большое количество крестьян, и война наносила ущерб экономике. Теперь необразованные слои общества становятся просто балластом. Современные войны ликвидируют отсталый элемент, оставляя в неприкосновенности технократов и усиливая их власть. Сравним наш вид с неким животным, которое нашло способ упросить процессы питания и движения и больше не нуждается в сложных органах. Тем самым, и тело его упростится. В наше время, чтобы поддерживать мозг, достаточно одной десятой части тела. Индивидуум, собственно, станет головой. Род человеческий станет технократией.
– Понятно, – кивнул Марк. – Я, правда, думал, что интеллектуальное ядро общества будет увеличиваться за счет образования.
– Чистая химера. Подавляющее большинство людей способно только получать информацию. Их невозможно научить той полной объективности, которая нам нужна. Они навсегда останутся животными, воспринимающими мир сквозь туман субъективных реакций. Но если бы они и смогли перемениться, время больших популяций прошло. То был кокон, в котором созрел человек‑технократ, обладающий объективным мышлением. Теперь этот кокон не нужен ни макробам, ни тем избранникам, которые могут с ними сотрудничать.
– Значит, две мировые войны вы бедами не считаете?
– Напротив. Было бы желательным провести не менее шестнадцати больших войн. Я понимаю, какие эмоциональные – то есть, химические реакции вызывает это утверждение, и вы зря расходуете силы, пытаясь их скрыть. Я не думаю, что вы уже способны контролировать такие процессы. Фразы этого типа я произношу намеренно, чтобы вы постепенно приучились смотреть на вещи с чисто научной точки зрения.
Марк смотрел в пол. На самом деле он не испытывал почти никаких чувств и даже удивился, обнаружив, как мало его трогают рассуждения о далеком будущем. Сейчас ему было не до того. Он был поглощен борьбой между твердым решением не верить, не поддаваться – и сильной, как прилив, тягой совсем иного рода. Наконец перед ним именно тот, избранный круг, такой избранный, что центр его даже вне человечества. Тайна из тайн, высшая власть, последняя инициация. Гнусность всего этого ничуть не уменьшала притягательности. Он думал, что Фрост знает все о его смятении, о соблазне, об убывающей решимости; и ставит на соблазн.
Какие‑то звуки за дверью стали громче, и Фрост крикнул:
– Пошли вон!
Но там не успокоились, кто‑то на кого‑то орал, стучась еще громче. Фрост, широко улыбаясь, открыл дверь. Ему сунули в руку записку. Он прочитал ее, вышел, не глядя на Марка, и повернул ключ в замке.
– Как же они у нас дружат! – сказала Айви Мэггс, глядя на м‑ра Бультитьюда и кошку по имени Пинчи. Медведь сидел у очага, привалившись к теплой стене, а кошка, нагулявшись на кухне, долго терлась об его живот и, наконец, улеглась между его задними лапами. Щеки у него были толстые, глазки – маленькие, и казалось, что он улыбается. Барон Корво, так и не слетевший с хозяйского плеча, спал, сунув голову под крыло.
Миссис Димбл еще не ложилась. Тревога ее достигла той степени, когда любая мелочь грозит раздражением. Но по ее лицу никто бы этого не понял. За столько лет она научилась обуздывать себя.
– Когда мы говорим «дружат», – сказал Макфи, – мы уподобляем их людям. Трудно сберечься от иллюзии, что у них есть личность, в нашем смысле этого слова. Но доказательств этому у нас нет.
– Чего же ей тогда от него нужно? – спросила Айви.
– Быть может, ее тянет к теплу, – предположил Макфи, – она укрывается от сквозняка. Вероятно, играют роль и преображенные сексуальные импульсы.
– Ну, знаете! – возмутилась Айви. – И не стыдно, про смирных зверей! В жизни я не видела, чтобы наш Бультитьюд, или Пинчи, бедняжка…
– Я сказал «преображенные», – уточнил Макфи. – Им приятно тереться друг о друга. Возможно, паразиты в их волосяном покрове…
– Это что, блохи? – воскликнула Айви. – Да вы знаете не хуже меня, какие они чистенькие!..
Она была права, ибо сам же Макфи облачался ежемесячно в комбинезон и купал медведя в ванне, намыливая от хвоста до носа, долго поливал теплой водой и насухо вытирал. Занимало это целый день, и он никому не разрешал помогать себе.
– А вы как думаете, сэр? – спросила Айви Рэнсома.
– Я? – откликнулся он. – По‑моему, Макфи видит в их жизни различия, которых там нет. Надо быть человеком, чтобы отличить ощущения от чувств – точно так же, как нужно обрести духовное начало, чтобы отличить чувства от любви. Кошка и медведь их не различают, они испытывают нечто единое, где есть зародыши и дружбы, и физической потребности.
– Я не отрицаю, что им приятно быть вместе… – начал Макфи.
– А я что говорила! – восклицала тем временем Айви Мэггс.
– …но я хочу разобраться в этой проблеме, – продолжал Макфи, – так как она связана с одним серьезным заблуждением. Система, принятая в этом доме, основана на лжи.
Грэйс Айронвуд открыла глаза (она дремала до сих пор), а Матушка Димбл шепнула Камилле: «Господи, пошел бы он спать!..»
– Что вы имеете в виду? – спросил Рэнсом.
– Вот что. Мы, с переменным успехом, пытаемся проводить некую линию, которую последовательно выдержать нельзя. Медведя держат в доме, кормят яблоками, медом…
– Вот это да! – выговорила Айви. – Кто ж его кормит, как не вы?
– Итак, – гнул свое Макфи, – медведя перекармливают и держат, повторяю, в доме, а свиней держат в хлеву и убивают. Я хотел бы узнать, где тут логика.
– Чепуха какая, – произнесла Айви Мэггс, глядя то на улыбающегося Рэнсома, то на серьезного Макфи. – Кто же это из медведя делает ветчину?
Макфи нетерпеливо взмахнул рукой, но ему помешали говорить смех Рэнсома и сильный порыв ветра, от которого задрожали окна.
– Как им тяжело! – вздохнула м‑сс Димбл.
– Я люблю такую погоду, – сказала Камилла. – Люблю гулять, когда ветер и дождь. Особенно в холмах.
– Любите? – удивилась Айви. – А я – нет. Вы послушайте, как воет. Я бы тут одна не смогла, без вас, сэр. Мне все кажется, в такую погоду ОНИ к вам и приходят.
– Им безразлична погода, Айви, – сказал Рэнсом.
– Никак не пойму, сэр, – призналась Айви. – Ваших я очень боюсь, а Бога – нет, хоть Он вроде бы пострашней.
– Он был пострашней, – согласился Рэнсом. – Вы правы, Айви, с ангелами человеку трудно, даже если ангел и добрый, как и человек. Апостолы пишут об этом. А с Богом теперь иначе, после Вифлеема.
– Скоро и Рождество, – вспомнила вдруг Айви, обращаясь ко всем.
– М‑р Мэггс к тому времени уже будет с нами, – пообещал Рэнсом.
– Через два дня, сэр, – улыбнулась Айви.
– Неужели это только ветер? – спросила вдруг Грэйс Айронвуд.
– Мне кажется, это лошадь, – сказала миссис Димбл.
Макфи вскочил.
– Пусти, Бультитьюд! – крикнул он. – Дай, возьму сапоги. – Он бормотал что‑то еще, натягивая макинтош, но слов никто не разобрал.
– Не дадите ли вы мне костыль, Камилла? – попросил Рэнсом. – Подождите, Макфи, мы выйдем к воротам вместе. Женщины останутся здесь.
Четыре женщины не двинулись с места; а двое мужчин стояли через минуту в больших сенях. Ветер колотил в дверь, и нельзя было понять, стучится ли в нее человек.
– Откройте, – приказал Рэнсом, – и встаньте позади меня.
Макфи не сразу отодвинул засовы. Мы не знаем, собирался ли он отойти потом назад, но ветер отшвырнул дверь к стене, и его зажало между стеной и дверью. Рэнсом стоял неподвижно, опираясь на костыль. Свет, идущий из кухни, высветил на фоне черного неба огромного коня. Морда его была в пене, желтые зубы скалились, алые ноздри раздувались, глаза горели, уши трепетали. Он подошел так близко, что передние копыта стояли на п??роге. На нем не было ни седла, ни узды, ни стремян; но в эту самую минуту с него спрыгнул огромный человек. Лицо его закрывала разметанная ветром рыже‑седая борода, и лишь когда он сделал шаг, Рэнсом увидел куртку цвета хаки, обтрепанные брюки и рваные ботинки.
В большой комнате горел камин, сверкало на столиках вино и серебро, а посередине стены стояло огромное ложе. Уизер смотрел, как четыре человека бережно, словно слуги или врачи, несут на носилках длинный сверток. Когда они опустили его на постель, Уизер еще шире раскрыл рот, и хаос его лица сменился чем‑то человеческим. Он увидел голое тело. Неизвестный был жив, хотя и без сознания. Уизер приказал положить к его ногам грелку и поднять на подушки его голову. Когда все это сделали, и он остался наедине с прибывшим, ИО придвинул кресло к кровати и принялся смотреть. Голова была большая, но казалась еще больше из‑за спутанной бороды и шапки бурых волос. Лицо было выдублено непогодой, шея – вся в морщинах. Человек лежал, закрыв глаза, и как будто улыбался. Уизер смотрел на него и так и сяк, меняя угол, зашел сзади, словно искал и не мог найти какой‑то черты. Через четверть часа в комнату мягко вошел профессор Фрост.
Он осмотрел незнакомца, заходя сперва с одной, потом с другой стороны кровати.
– Он спит? – спросил Уизер.
– Не думаю, скорее – что‑то вроде транса. Где они его нашли?
– В ложбине, за четверть мили от выхода. Выследили по следу босых ног.
– Склеп пустой?
– Да. Стоун звонил мне.
– Вы распорядитесь насчет Стоуна?
– Да, да. А что вы о нем думаете?
– Я думаю, это он, – сказал Фрост. – Место верное. Отсутствие одежды трудно объяснить иначе. Череп такой, как я и полагал.
– Но лицо…
– Да, лицо совсем не такое…
– Я был уверен, – с сомнением протянул ИО, – что узнаю посвященного, и даже того, кто может им стать. Вы меня понимаете… Сразу видно, что Стэддок или Страйк подойдут, а вот мисс Хардкастл, при всех ее превосходных качествах…
– Да. Вероятно, надо быть готовыми к тому, что он… неотесан. Кто знает, какие у них тогда были методы?
– Быть может, опыт опасней, чем нам казалось.
– Я давно вас прошу, – сказал Фрост, – не вносить в научное обсуждение эмоциональных элементов.
И оба они замолчали, ибо новоприбывший открыл глаза.
От этого лицо его обрело осмысленное выражение, но понятней не стало. По всей вероятности, он на них смотрел, но неизвестно, видел ли. Уизеру показалось, что главное в этом лице – осторожность. Не напряженность или растерянность, а привычная, бесстрастная настороженность, за которой должны стоять долгие годы мирно и даже весело принимаемых передряг.
Уизер встал и откашлялся.
– Магистр Мерлин, мудрейший из британцев, владеющий тайнами тайн, с невыразимой радостью принимаем мы тебя в этом доме. Ты поймешь, что и мы не совсем несведущи в великих искусствах и, если я могу так выразиться… – заговорил он. Но постепенно голос его угас. Было слишком ясно, что голый человек не обращает на его слова никакого внимания. Быть может, он не так произносит? Нет, новоприбывший, судя по лицу, просто не понимает и даже не слушает.
Фрост взял графин, налил бокал вина и поднес его гостю с низким поклоном. Тот взглянул на вино то ли лукаво, то ли нет и сел, являя мохнатую грудь и могучие руки. Он указал пальцем на столик. Фрост тронул другой графин; гость покачал головой.
– Я полагаю, – сказал Уизер, – что наш уважаемый… э‑э‑э… друг указывает на кувшин. Не знаю, что они там поставили…
– Пиво, – процедил Фрост.
– Маловероятно… хотя… мы плохо знакомы с обычаями тех времен…
Фрост налил пива и поднес гостю. Загадочное лицо впервые осветилось. Гость отвел рукой усы и стал жадно пить. Голова его все больше запрокидывалась назад. Выпив все до капли, он утер губы тыльной стороной ладони и глубоко вздохнул – то был первый звук, который он издал за все время. Потом он снова указал на столик.
Они подносили ему еду и пиво раз двадцать – Уизер подобострастно, Фрост бесшумно, как лакей. Ему предлагали разные яства, но он выказал предпочтение холодному мясу, пикулям, хлебу, сыру и маслу. Масло он ел прямо с ножа. Вилки он явно не знал и мясо рвал руками, а кость сунул под подушку. Жевал он громко. Наевшись, он снова показал на пиво, выпил его в два глотка, утер губы пододеяльником, выс??оркался в руку и вроде бы собрался уснуть.
– А… э… господин мой, я ни в коей мере не хотел бы тебе мешать. Но, однако, с твоего разрешения… – заторопился Уизер.
Гость не слушал. Трудно было определить, закрыты ли его глаза, или он смотрит из‑под опущенных век, но разговаривать он не собирался. Фрост и Уизер обменялись недоуменными взглядами.
– Сюда нет другого входа? – спросил Фрост.
– Нет, – заверил его Уизер.
– Тогда пойдемте, все обсудим. Дверь оставим открытой. Если он пошевелится, мы услышим.
Когда Марк остался один, сперва он почувствовал облегчение. Он по‑прежнему боялся, но в самой сердцевине этого страха рождалась какая‑то странная легкость. Больше не надо завоевывать их доверие, раздувать жалкие надежды. Прямая борьба после такого множества дипломатических ошибок даже бодрила. Конечно, он может проиграть, но сейчас, хотя бы, он – против них, и все тут. Он вправе говорить о «своей стороне». Он – с Джейн и со всем, что она воплощает. Собственно, он даже обогнал ее, она ведь и не участвует в битве…
Одобрение совести – очень сильное средство, особенно для тех, кто к нему не привык. За две минуты Марк перешел от облегчения к смелости, а от нее – к необузданной отваге. Он видел себя героем, мучеником, Джеком‑Победителем, беззаботно играющим в великаньей кухне, и образы эти обещали изгнать то, что он перевидал за последние часы. Не всякий, в конце концов, устоит против таких предложений. Как был бы он когда‑то польщен!..
Как был бы он польщен… Внезапно, очень быстро, неведомая похоть охватила его. Те, кто ее испытали, сразу узнают, какое чувство трясло его, как собака трясет добычу; те, кто не испытали, ничего не поймут. Некоторые описывают такую похоть в терминах похоти плотской, и это очень много говорит – но лишь тем, кто испытал. С плотью это не связано ни в малой степени; хотя двумя чертами и похоже на плотскую похоть, какой она становится в самых темных и глубоких подвалах своего запутанного, как лабиринт, дома. Словно плотская похоть, это лишало очарования все остальное, что Марк знал доселе, – влюбленность, честолюбие, голод, вожделение, наконец – стали как слабый чай, как дешевая игрушка, на которую не потратишь и мельчайшего чувства. Бесконечное очарование новой, неведомой похоти всосало все другие страсти, и мир остался выцветшим, пресным, жухлым, словно брак без любви или мясо без соли. О Джейн он еще мог думать чувственно, но вожделения к ней уже не испытывал, – змея эта стала жалким червяком, когда он увидел дракона. И еще одним это походило на плотскую похоть: развратному человеку незачем говорить, что кумиры его ужасны, ибо к ужасу его и тянет. Он стремится к безобразному, красота давно не возбуждает его, она стала для него слишком слабой. Так и здесь. Существа, о которых говорил Фрост (Марк не сомневался, что они с ним, в комнате) губили и род человеческий, и всякую радость; но именно поэтому его и влекло, тянуло, притягивало к ним. Никогда до сих пор он не знал, как велика сила того, что противно природе. Теперь он понял непонятные прежде картины, и объективность, о которой говорил Фрост, и древнее ведовство. Перед ним встало лицо Уизера, и он с острой радостью увидел, что и тот понимает. Уизер знал.
Он вдруг вспомнил, что его, наверное, убьют. При этой мысли он снова увидел белые голые стены и яркий свет. Он заморгал. Где он был только что? Конечно, ничего общего между ним и Уизером нет. Конечно, они его убьют в конце концов, если он чего‑нибудь не измыслит. О чем же он думал, что чувствовал, если забыл это?!
Постепенно он понял, что пережил нападение и не сумел ему воспротивиться; и тут его охватил еще один страх. В теории он был материалистом, но бессознательно, даже беспечно верил, что воля его свободна. Нравственные решения он принимал редко и когда, два часа назад, решил не верить институтским, не сомневался, что это – в его власти. Ему и в голову не приходило, что кто‑то может так быстро изменить до неузнаваемости его разум. Он знал, что волен передумать, а больше никаких помех не видел. Если же бывает так… Нет, это нечестно! Ты пытаешься, впервые в жизни, поступить правильно – так, что и Джейн, и Димбл, и тетя Джилли тебя бы одобрили. Казалось бы, мир должен тебя поддержать (полудикарский атеизм был в Марке гораздо сильнее, чем он думал), а он, именно в эту минуту, покидает тебя! Ты мучайся, а он – вот что…
Выходит, циники правы. И тут он остановился. Какой??то привкус сопровождал эти мысли. Неужели снова начинают? Нет, нет, не надо! Он сжал руки. Нет, ни за что! Он больше не выдержит. Если бы здесь была Джейн; или м‑сс Димбл; или Деннистоун!.. Хоть кто‑нибудь. «Не пускайте меня, не пускайте меня туда!» – произнес он, и еще раз, громче: «Не пускайте!» Все, что можно было назвать им самим, вложил он в эту мольбу; и страшная мысль, что карта – последняя, уже не испугала его. Больше делать было нечего. Сам того не зная, он разрешил мышцам расслабиться. Тело его очень измучилось и радовалось даже твердым доскам пола. Комната стала чистой и пустой, словно и она устала от всего, что вынесла, – чистой, как небо после дождя, пустой, как наплакавшийся ребенок. Марк смутно подумал, что скоро рассвет, и заснул.
13. ОНИ ОБРУШИЛИ НА СЕБЯ НЕБО
– Стой, где стоишь, – сказал Рэнсом. – Кто ты и зачем пришел?
Оборванный великан склонил голову на бок, словно хотел получше расслышать. В ту же минуту ворвался ветер и захлопнул дверь в кухню, отделив трех мужчин от женщин. Незнакомец сошел с порога.
– Стой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа скажи мне, кто ты и зачем пришел, – громко произнес Рэнсом.
Незнакомец поднял руку и откинул волосы со лба. Свет падал на его лицо, и оно показалось Рэнсому беспредельно мирным. Все тело его было свободным, словно он спал. Стоял он очень тихо. Каждая капля дождя капала с его куртки туда, куда упала прежняя капля.
Секунды две он глядел на Рэнсома без особого любопытства, потом посмотрел налево, где за входной дверью, откинутой ветром, стоял Макфи.
– Выходи, – сказал он по‑латыни. Говорил он почти шепотом, но голос его был так звучен, что задрожали даже эти непоколебимые ветром стены. Но еще больше удивило Рэнсома то, что Макфи немедленно вышел. Смотрел он не на него, а на незнакомца. Потом он громко зевнул. Незнакомец окинул его взглядом и обратился к Рэнсому:
– Раб, скажи хозяину этого дома, что я пришел.
Ветер, налетая сзади, рвал его одежду и волосы, но он стоял, как большое дерево. И говорил он так, как заговорило бы дерево – медленно, терпеливо, неторопливо, словно речь текла по корням, сквозь глину и гравий, из глубин Земли.
– Я здесь хозяин, – отвечал Рэнсом на том же языке.
– Оно и видно, – кивнул пришелец. – А этот жалкий раб – твой епископ.
Он не улыбнулся, но в глазах его мелькнула усмешка, и он повторил:
– Скажи своему господину, что я пришел.
– Ты хочешь, – переспросил Рэнсом, – чтобы я сообщил об этом своим господам?
– В келье монаха и галка научится латыни, – презрительно бросил пришелец. – Скажи мне, как ты их кличешь, смерд.
– Мне понадобится другой язык, – предупредил его Рэнсом.
– Зови по‑гречески.
– Нет, не греческий.
– Послушаем, знаешь ли ты еврейскую речь.
– И не еврейский.
– Что ж, если хочешь болтать, как варвары, я все равно тебя переболтаю. То‑то будет потеха!
– Быть может, – ответил Рэнсом, – язык этот и покажется тебе варварским, ибо его не слышали давно. Даже в Нуминоре на нем говорили редко.
– Твои господа доверяют тебе опасные игрушки, – процедил пришелец и немного помолчал. – Плохо принимают гостей в твоем доме. В спину мне дует ветер, а я долго спал. Ты видишь, я переступил порог.
– Закройте дверь, Макфи, – произнес Рэнсом по‑английски. Ответа не было, и, впервые оглянувшись, он увидел, что Макфи спит на единственном стуле.
– Что это значит? – спросил Рэнсом, остро глядя на пришельца.
– Если ты тут хозяин, – ответил тот, – то знаешь и сам. Если ты не хозяин, то должен ли я отвечать? Не бойся, я не причиню вреда этому рабу.
– Это мы скоро увидим, – пробормотал Рэнсом. – А пока входи, я не боюсь. Скорее я боюсь, как бы ты не ушел. Закрой двери сам, ты видишь – у меня болит нога.
Не отрывая глаз от Рэнсома, пришелец отвел левую руку, нащупал засов и запер дверь. Макфи не шевельнулся.
– Кто же твои господа? – спросил пришелец.
– Господа мои – ойярсы, – отвечал Рэнсом.
– Где ты слышал это слово? – изумился пришелец. – Если ты и впрямь учен, почему ты одет, как раб?
– Ты и сам одет не лучше, – отпарировал Рэнсом.
– Удар твой меток, – кивнул пришелец, – и знаешь ты много. – Ответь же мне, если посмеешь, на три вопроса.
– Отвечу, если смогу, – согласился Рэнсом.
Словно повторяя урок, пришелец напевно начал:
– Где Сульва? Каким она ходит путем? Где бесплодна утроба? Где холодны браки?
Рэнсом ответил:
– Сульва, которую смертные зовут Луною, движется в низшей сфере. Через нее проходит граница падшего мира. Сторона, обращенная к нам, разделяет нашу участь. Сторона, обращенная к небу, прекрасна, и блажен, кто переступит черту. На здешней стороне живут несчастные твари, исполненные гордыни. Мужчина берет женщину в жены, но детей у них нет, ибо и он, и она познают лишь хитрый образ, движимый бесовской силой. Живое тело не влечет их, так извращена похоть. Детей они создают злым искусством, в неведомом месте.
– Ты хорошо ответил, – одобрительно произнес пришелец. – Я думал, только три человека знают это. Второй мой вопрос труднее: где кольцо короля, в чьем оно доме?
– Кольцо короля, – ответил Рэнсом, – на его руке, в царском доме, в круглой, как чаша, земле Абхолджин, за морем Дур, на Переландре. Король Артур не умер, Господь забрал его во плоти, он ждет конца времени и сотрясения Сульвы с Енохом, Илией и Мельхиседеком. В доме царя Мельхиседека и сверкает кольцо.
– Хороший ответ, – уважительно сказал пришелец. – Я думал, лишь двое знают это. На третий вопрос ответит лишь один. Когда спустится Лурга? Кто будет в те дни Пендрагоном? Где научился он брани?
– На Переландре я учился брани, – ответил Рэнсом. – Лурга спустится скоро. Я Пендрагон.
Только он произнес эти слова, ему пришлось отступить, ибо пришелец зашевелился. Каждый, кто видел бы их сейчас, подумал бы, что дело идет к драке. Тяжко и мягко, словно гора, сползшая в море, гость опустился на одно колено. Однако лицо его было вровень с лицом Рэнсома.
– Да, возникла непредвиденная трудность, – заговорил Уизер, когда они с Фростом уселись у открытой двери. – Должен признаться, не думал, что нас ожидают… э… лингвистические неувязки.
– Нужен кельтолог, – сказал Фрост. – У нас с филологией слабо. Тут подошел бы Рэнсом. Вы ничего о нем не слышали?
– Вряд ли нужно напоминать, – сказал Уизер, – что доктор Рэнсом интересует нас не только как филолог. Смею вас заверить, если бы мы напали на малейший его след, мы бы давно… э‑э… имели удовольствие видеть его среди нас.
– Сам понимаю. Наверное, он на Земле… Хорошо, по‑валлийски говорит Страйк. У него мать оттуда.
– Было бы чрезвычайно желательно, – проговорил Уизер, – сохранить все… э‑э‑э… в семейном кругу. Мне было бы исключительно неприятно приглашать кельтолога со стороны.
– Ничего, мы его потом спишем. Другое плохо, время уходит. Как у вас там Страйк?
– Превосходно! Я даже сам теряюсь. Он продвигается так быстро, что мне придется оставить свой проект. Я хотел объединить наших… э‑э… подопечных, сопоставив, тем самым, наши методы. Конечно, нет и речи о каком бы то ни было соперничестве…
– Еще бы, я работал со Стэддоком только один раз! Результат – оптимальный. Про Страйка я спросил, чтобы узнать, может ли он тут дежурить. А вообще, пусть дежурит Стэддок. Пока там что, а сейчас пускай трудится.
– Вы думаете, м‑р… э… Стэддок… достаточно продвинулся?
– Это неважно. Что он может сделать? Выйти он не выйдет. Нам нужно, чтобы кто‑нибудь стерег, а ему – польза.
Макфи, только что переспоривший и Рэнсома, и Алькасана, почувствовал, что кто‑то трясет его за плечо. Потом он ощутил, что ему холодно, а левая нога у него затекла, и увидел прямо перед собой лицо Деннистоуна. Народу в сенях было много – и Деннистоун, и Джейн, все усталые и вымокшие.
– Что с вами? – с тревогой осведомился Деннистоун.
Макфи сглотнул несколько раз и облизал губы.
– Ничего. – Тут он выпрямился. – Эй, где же он?
– Кто? – спросил Деннистоун.
– Трудно сказать, – отвечал Макфи. – Понимаете, я сразу уснул.
Все переглянулись. Макфи вскочил.
– Господи! – крикнул он. – Да тут же был Рэнсом! Не знаю, что со мной случилось. Наверное, это гипноз. Прискакал человек на лошади…
Все забеспокоились. Деннистоун распахнул дверь в кухню, и в свете очага взорам новоприбывших предстали четыре спящие женщины. Спала и птица на спинке стула, спал и м??дведь, по‑детски посвистывая. М‑сс Димбл уронила голову на стол, вязанье – на колени (Димбл смотрел на нее с той жалостью, с какой мужчина смотрит на спящего, особенно – на жену). Камилла свернулась в качалке, как кошка, которая спит, где угодно. Айви дышала ртом, а Грэйс Айронвуд сидела прямо, словно она с суровым терпением приняла унизительное бремя насильственного сна.
– Будить их некогда, – решил Макфи. – Идемте наверх.
Они пошли, зажигая по пути свет, через пустые комнаты, беспомощные, как все комнаты ночью – огонь в камине погас, часы остановились, на диване – газета. Никто и не ждал увидеть что‑нибудь другое на первом этаже.
– Наверху свет, – возразила Джейн, когда они дошли до лестницы.
– Мы сами его зажгли, еще в коридоре, – напомнил Димбл.
– Нет, это не тот, – отозвался Деннистоун.
– Простите, – обратился Димбл к Макфи, – мне лучше идти первым.
Еще со второй площадки и Джейн, и Деннистоун заметили, что первые двое вдруг остановились. Хотя у нее немыслимо устали ноги, Джейн кинулась вперед и увидела то, что видели Димбл и Макфи.
Наверху, у балюстрады, стояли два человека в пышных одеждах, один – в алой, другой – в светло‑синей. Страшная мысль поразила Джейн: собственно, что она знает о Рэнсоме? Он заманил ее сюда… из‑за него она узнала сегодня, что такое адский страх… Теперь он стоит вот с этим, и они делают то, что делают такие люди, когда никого нет или все спят. Один пролежал много лет в земле, другой побывал на небе… Больше того, один говорил, что другой им враг, а теперь они слились, словно две капли ртути. Рэнсом стоял очень прямо, без костыля. Свет падал сзади, и от его бороды шло сияние, а волосы сверкали чистым золотом. Вдруг Джейн поняла, что смотрит, ничего не видя, прямо на пришельца. Он был огромен и что‑то говорил, указывая на нее.
Слов она не поняла, но их понял Димбл.
– Сэр, – говорил Мерлин на какой‑то странной латыни, – вот тут лукавейшая дама из всех живущих на земле.
– Сэр, ты неправ, – отвечал Рэнсом. – Эта дама грешна, как и все мы, но она не лукава.
– Сэр, – возразил Мерлин, – знай, что она причинила королевству величайшее зло. Ей и ее господину было суждено зачать дитя, которое, возросши, изгнало бы наших врагов на тысячу лет.
– Она недавно замужем, – объяснил Рэнсом. – Дитя еще родится.
– Сэр, – отвечал Мерлин, – оно не родится, ибо час миновал. Она и ее господин бесплодны по своей воле. Я не знал, что вам ведомы мерзости Сульвы. И в отцовском роду, и в материнском, это рождение подготовили сто поколений. Если сам Господь не совершит чуда, такое сочетание людей и звезд не повторится.
– Молчи, – тихо проговорил Рэнсом. – Она понимает, что речь идет о ней.
– Было бы великой милостью, – заметил Мерлин, – отрубить ей голову, ибо поистине тяжко глядеть на нее.
Димбл загородил собою растерянную Джейн и громко спросил:
– Рэнсом, что это значит?
Мерлин что‑то говорил, и Рэнсом слушал его.
– Отвечайте! – потребовал Димбл. – Что случилось? Почему вы так одеты? Зачем вы беседуете с этим кровожадным стариком?
– Доктор Рэнсом, – сказал Макфи, глядевший на пришельца, как терьер на сенбернара, – я не знаю латыни, но прекрасно знаю, что вы разрешили загипнотизировать меня. Поверьте, не так уж приятно видеть вас в опереточном костюме с этим йогом, шаманом, или кто он там есть. Скажите ему, чтобы он на меня так не смотрел. Я его не боюсь. Если вы, доктор Рэнсом, перешли на их сторону, я здесь не нужен. Можете меня убить, но смеяться над собой я не позволю. Мы ждем ответа.
Рэнсом молча глядел на них.
– Неужели дошло до этого? – спросил он наконец. – Неужели вы мне не верите?
– Я верю вам, сэр, – сказала Джейн.
– Чувства к делу не относятся, – отрезал Макфи.
– Что ж, – сказал Рэнсом, – мы ошиблись. Ошибся и враг. Это Мерлин Амвросий. Он с нами. Вы знаете, Димбл, что такая возможность была.
– Да, – проговорил Димбл, – была… но посудите сами: вы стоите здесь, рядом, и он говорит такие жестокие слова…
– Я и сам удивляюсь его жестокости, – согласился Рэнсом, – но, в сущности, можно ли было ожидать, что он станет судить о наказании, как филантроп XIX века? Кроме того, он никак не поймет, что я не полновластный король.
– Он… он верит в Бога? – спросил Димбл.
– Да, – отвечал Рэнсом. – А оделся я так, чтобы его почтить. Он пристыдил меня. Он думал, что мы с Макфи – рабы или слуги. В его дни никто не надел бы по своей воле бесцветных или бесформенных одежд.
Мерлин заговорил снова.
– Кто эти люди? – спросил он. – Если они твои рабы, то почему они столь дерзки? Ели они твои враги, то почему ты терпишь их?
– Они мои друзья, – начал Рэнсом, но Макфи перебил его.
– Должен ли я понимать, доктор Рэнсом, – спросил он, – что вы предлагаете включить в нашу среду этого человека?
– Не совсем так, – отвечал Рэнсом. – Он давно с нами. Я могу лишь просить вас, чтобы вы это признали.
Мерлин обратился к Димблу.
– Пендрагон сказал мне, что ты считаешь меня жестоким. Это меня удивляет. Третью часть имения я отдал нищим и вдовам. Я никого не убивал, кроме негодяев и язычников. Что же до этой женщины, то пускай живет. Не я господин в этом доме. Но так ли важно, слетит ли с плеч ее голова, когда королевы и дамы, которые погнушались бы взять ее в служанки, гибли за меньшее? Даже этот висельник, что стоит за тобою – да, да, я говорю о тебе, хотя ты знаешь лишь варварское наречье! – даже этот жалкий раб, чье лицо подобно скисшему молоку, ноги – ногам аиста, а голос – скрипу пилы о полено; даже он, этот карманник, не избежал бы у меня веревки. Его не повесили бы, но высекли.
– Доктор Рэнсом, – вклинился Макфи, – я был бы вам благодарен…
– Мы все устали, – перебил его Рэнсом. – Артур, затопите камин в большой комнате. Разбудите кто‑нибудь женщин, пусть покормят гостя. Поешьте и сами, а потом ложитесь. Завтра не надо рано вставать. Все будет очень хорошо.
– Да, нелегко с ним, – сказал Димбл на следующий день.
– Ты очень устал, Сесил, – забеспокоилась его жена.
– Он… с ним трудно говорить. Понимаешь, эпоха важнее, чем мы думали.
– Я заметила, за столом. Надо было догадаться, что он не видел вилки… Сперва мне было неприятно, но он так красиво ест…
– Да, он у нас джентльмен в своем роде. И все‑таки… нет, ничего.
– А что было, когда вы разговаривали?
– Все приходилось объяснять, и нам, и ему. Мы еле втолковали, что Рэнсом не король и не хочет стать королем. Потом, он никак не понимал, что мы не британцы, а англичане… он называет это «саксы». А тут еще Макфи выбрал время, стал объяснять, в чем разница между Шотландией, Ирландией и Англией. Ему кажется, что он – кельт, хотя он такой же кельт, как Бультитьюд. Кстати, Мерлин Амвросий изрек о нем пророчество.
– Какое?
– Что еще до Рождества этот медведь совершит то, чего не совершал ни один медведь в Британии. Он все время пророчествует, кстати и некстати. Как будто это зависит не от него… Как будто он и сам больше не знает… просто поднялась в голове заслонка, он что‑то увидел, и она опустилась. Довольно жутко.
– С Макфи они ссорились?
– Да нет. Мерлин не принимает его всерьез. Кажется, он считает его шутом Рэнсома. А Макфи, конечно, непреклонен.
– Говорили вы о делах?
– Более или менее. Нам очень трудно понять друг друга. Кто‑то сказал, что у Айви муж в тюрьме, и он спросил, почему мы не возьмем тюрьму и не освободим его. И так все время.
– Сесил, а будет от него польза?
– Боюсь, что слишком большая.
– То есть как это?
– Понимаешь, мир очень сложен…
– Ты часто это говоришь, дорогой.
– Правда? Неужели так же часто, как ты говоришь, что у нас когда‑то были пони и двуколки?
– Сесил! Я сто лет о них не вспоминала.
– Дорогая моя, позавчера ты рассказывала об этом Камилле.
– О, Камилле! Это другое дело. Она же не знала!
– Допустим… ведь мир исключительно сложен…
Оба они помолчали.
– Так что же твой Мерлин? – спросила м‑сс Димбл.
– Да, ты замечала, что в мире абсолютно все утончается, сужается, заостряется?
Жена ждала, зная по опыту, как разворачивается его мысль.
– Понимаешь, – продолжал он, – в любом университете, городе, приходе, в любой семье, где угодно, можно увидеть, что раньше было… ну, смутнее, контрасты не так четко выделялись. А потом все станет еще четче, еще точнее. Добро становится лучше, зло – хуже; все труднее оставаться нейтральным даже с виду… Помнишь, в этих стихах, где небо и преисподняя вгрызаются в землю с обеих сторон… как это?.. «пока не туру‑рум ее насквозь». Съедят? Нет, ритм не подходит. «Проедят», наверное. И это с моей памятью! Ты помнишь эту строку?
– Я тебя слушаю и вспоминаю слова из писания о том, что нас веют, как пшеницу.
– Вот именно! Быть может, «течение времени» означает только это. Речь не об одном нравственном выборе, все разделяется резче. Эволюция в том и состоит, что виды все меньше и меньше похожи друг на друга. Разум становится все духовней, плоть – все материальней. Даже поэзия и проза все дальше отходят одна от другой.
С легкостью, рожденной опытом, Матушка Димбл отвела опасность, всегда грозившую их беседам.
– Да, – сказала она. – Дух и плоть. Вот почему таким людям, как Стэддоки, не дается счастье.
– Стэддоки? – удивился Димбл. – Ах, да, да! Это связано, конечно… Но я о Мерлине. Понимаешь, в его время человек мог то, чего он сейчас не может. Сама Земля была ближе к животному. Тогда еще жили на Земле нейтральные существа…
– Нейтральные?
– Конечно, разумное сознание или повинуется Богу, или нет. Но по отношению к нам, людям, они были нейтральны.
– Это ты про эльдилов… про ангелов?
– Слово «ангел» не однозначно. Даже ойярсы не ангелы в том смысле, в каком мы говорим об ангеле‑хранителе. Строго терминологически, они – силы. Но суть в другом. Даже эльдилов сейчас легче разделить на злых и добрых, чем при Мерлине. Тогда на Земле были твари… как бы это сказать?.. занятые своим делом. Они не помогали человеку и не вредили. У Павла об этом говорится. А еще раньше… все эти боги, феи, эльфы…
– Ты думаешь, они есть?
– Я думаю, они были. Теперь для них нет места, мир сузился. Наверное, не все они обладали разумом. Одни из них были наделены очень смутным сознанием, вроде животных. Другие… да я не знаю! Во всяком случае, среди них жил такой вот Мерлин.
– Даже страшно становится…
– Это и было страшно. Даже в его время, а тогда это уже кончалось, общение с ними могло быть невинным, но небезопасным. Они как бы сортировали тех, кто вступал с ними в контакт. Не нарочно, они иначе просто не могли. Мерлин благочестив и смирен, но чего‑то он лишен. Он слишком спокоен, словно ограбленная усадьба. А все потому, что он знал больше, чем нужно. Это как с многоженством. Для Авраама оно грехом не было, но мы ведь чувствуем, что даже его оно в чем‑то обездолило.
– Сесил, – спросила м‑сс Димбл, – а это ничего, что Рэнсом использует такого человека? Не выйдет ли, что мы сражаемся с Беллбэри их же оружием?
– Нет, – сказал Димбл. – Я об этом думал. Мерлин и Беллбэри противоположны друг другу. Он – последний носитель старого порядка, при котором, с нашей точки зрения, дух и материя были едины. Он обращается с природой, словно с живым существом, словно улещивает ребенка или понукает коня. Для современных людей природа – машина, которую можно разобрать, если она плохо работает. Но еще современней – институт. Он хочет, чтобы ему помогли с ней управляться сверхъестественные… нет, противоестественные силы. Мерлин действовал изнутри, они хотят ворваться снаружи. Скорей уж Мерлин воплощает то, что мир давно утратил. Знаешь, ему запрещено прикасаться заостренным орудием к чему бы то ни было живому.
– Ах, Господи! – воскликнула м‑сс Димбл. – Шесть часов! А я обещала Айви придти на кухню в четверть шестого. Нет, ты не иди.
– Удивительная ты женщина, – покачал головой Димбл. – Тридцать лет вела свой дом, а как прижилась в этом зверинце!
– А что тут такого? – удивилась м‑сс Димбл. – Дом и Айви вела, а ей хуже. У меня хоть муж не в тюрьме.
– Ничего, – утешил ее Димбл. – Подожди, пока Мерлин Амвросий начнет действовать.
Тем временем Мерлин и Рэнсом беседовали в синей комнате. Рэнсом лежал на тахте, Мерлин сидел в кресле, ровно поставив ноги и положив на колени большие бледные руки, словно деревянная статуя короля. Одежд он не снял, но под ними ничего не было – он страдал от жары и боялся брюк. После купания он потребовал благовоний, и ему купили в деревне бриллиантин. Теперь его борода и волосы испускали сладкий запах. Мистер Бультитьюд так упорно стучался в дверь, что ему открыли, и он сидел поближе к волшебнику, жадно поводя носом.
– Сэр, – говорил Мерлин, – я не мог?? постигнуть, как ты живешь. Купанью моему позавидовал бы император, но никто не служил мне. Постель моя мягче сна, но я одеваюсь сам, словно смерд. Окна столь прозрачны и чисты, что я вижу небо, но я живу один, как узник в темнице. Вы едите сухое и пресное мясо, но тарелки ваши глаже слоновой кости и круглее солнца. В доме тихо и тепло, как в раю, но где музыканты, где благовония, где золото? У тебя нет ни псов, ни соколов. Вы живете не как лорды и не как монахи. Я говорю это сэр, ибо ты спросил меня. Важности в этом нет. Теперь, когда нас слышит последний из семи медведей Логриса, время говорить об ином.
Он смотрел на Рэнсома, и вдруг наклонился к нему.
– Рана снова терзает тебя? – спросил он.
Рэнсом покачал головой.
– Нет, – сказал он, – дело не в этом. Нам придется говорить о страшных вещах.
– Сэр, – мягче и глуше произнес Мерлин, – я могу снять боль с твоей пяты, словно смыть ее губкой. Дай мне семь дней, чтобы я осмотрелся в этом краю, обновил старую дружбу. И с лесами этими, и с полями мы побеседуем о многом.
Говоря это, он подался вперед, и лицо его было вровень с мордой медведя, словно и они беседовали о многом. Взгляд у него стал, как у зверя – не хищный и не хитрый, но исполненный терпеливого, безответного лукавства.
– Я могу, – продолжал Мерлин, – освободить тебя от мучений. Хотя он и вымылся и умаслился бриллиантином, от него все сильнее пахло мокрым листом, стоячей водой, илом, камнями. Лицо его становилось все отрешенней, словно он вслушивался в едва уловимые звуки – шорох мышей, шлепанье лягушек, журчанье струй, похрустывание сучьев, мягкие удары лесных орехов о землю, шелест травы. Медведь закрыл глаза, комната как бы засыпала под наркозом.
– Нет, – проговорил Рэнсом и поднял голову, склонившуюся было на грудь. Выпрямился и волшебник. Медведь открыл глаза.
– Нет, – повторил Рэнсом. – Тебя не для того извлекли из могилы, чтобы ты утишил мою боль. Наши лекарства сделали бы это не хуже, но я должен претерпеть до конца. Больше мы об этом говорить не будем.
– Я повинуюсь тебе, сэр, – произнес друид, – но зла я не мыслил. Былая дружба поможет мне исцелить королевство.
И снова послышался густой, сладкий запах.
– Нет, – еще громче проговорил Рэнсом. – Теперь этого делать нельзя, вода и лес утратили душу. Конечно, ты можешь разбудить их, но королевству это не поможет. Ни буре, ни наводнению не одолеть нашего врага. Оружие сломается в твоей руке, ибо мерзейшая мощь стоит перед нами, как в дни, когда царь Нимрод хотел достигнуть небес.
– Господин мой, – промолвил Мерлин, – разреши мне пробудить скрытые силы…
– Я запрещаю тебе, – ответил Рэнсом. – Это против закона. Быть может, скрытые силы еще и дремлют в земле, но будить их ты не станешь. Даже и в твои дни это было не совсем законно. Вспомни, мы думали, что ты встанешь на сторону врагов. Каждое Свое дело Господь творит ради каждого. Ты проснулся и для того, чтобы спасти душу.
Мерлин откинулся на спинку кресла, и медведь лизнул его руку.
– Сэр, – тихо сказал Мерлин, – если мне не дозволено служить вам своим искусством, ты взял в свой дом никчемную груду плоти. Сражаться я не могу.
– И не надо, – улыбнулся Рэнсом и немного помолчал. – Земная сила не справится с нашим врагом.
– Что ж, будем молиться, – заключил Мерлин. – Меня называли чернокнижником. Это ложь, но я не знаю, сэр, зачем я проснулся.
– Молиться мы будем, – согласился Рэнсом, – но я говорю не о том. Тайные силы есть не на одной Земле.
Мерлин молча глядел на него.
– Ты знаешь, о чем я говорю, – продолжал Рэнсом. – Разве я не сказал тебе сразу, что мои господа – ойярсы?
– Сказал, – кивнул Мерлин. – Потому я и понял, что ты посвящен в тайны. Ведь по этому слову мы узнаем друг друга.
– Вот как? – удивился Рэнсом. – Я и не знал.
– Почему же ты сказал так?
– Потому что это правда.
Волшебник облизнул побледневшие губы, потом простер руки.
– Ты мать и отец, – сказал он, глядя на Рэнсома, словно испуганный ребенок. – Дозволь мне говорить, или убей меня, ибо я – в твоей деснице. Когда‑то я слышал, что есть люди, беседующие с богами. Власий, мой учитель, помнил несколько слов их языка. Но ты знаешь и сам, что даже то были не сами ойярсы, а их земные тени. Земная Венера, земной Меркурий, но не Переландра, и не Виритрильбия…
– Я говорю не о земных тенях, – прервал его Рэнсом. – Я стоял перед Марсом и перед Венерой в их собственном царстве. Врага одолеют они и те, кто сильнее их.
– Господин мой, – возразил Мерлин, – этого быть не может, ибо это нарушило бы Седьмой Закон.
– В чем он состоит? – спросил Рэнсом.
– Всемилостивейший Господь поставил Себе законом не посылать этих сил на Землю до конца времен. Быть может, конец наступил?
– Быть может, он начался, – тихо произнес Рэнсом, – но я ничего о том не знаю. Мальдедил поставил законом не посылать небесных сил на Землю, но техникой и наукой люди проникли на небо и потревожили эти силы. Все это происходило в пределах природы. Злой человек на утлой машине проник в сферу Марса, и я был его пленником. На Малакандре и на Переландре я встретил моих повелителей. Ты понимаешь меня?
Мерлин склонил голову.
– Так злой человек, подобно Иуде, сделал не то, что думал. Теперь на Земле один из всех людей узнал ойярсов и говорил на их языке не чудом Господним и не волшебством Нуминора, а просто, как путник, повстречавший других на дороге. Наши враги лишили себя защиты Седьмого Закона. Они сломали барьер, который Сам Бог не пожелал бы сломать. Вот почему силы небес приходили в этот дом и в комнате, где ты сидишь, беседовали со мной.
Мерлин побледнел еще сильнее. Медведь незаметно нюхал его руку.
– Я стал мостом, – пояснил Рэнсом. – Посредником.
– Сэр, – проговорил Мерлин, – если они будут действовать сами, они разрушат Землю.
– Они не будут, – ответил Рэнсом. – Вот почему им нужен человек.
Волшебник провел по лбу своей большой ладонью.
– Человек, чей разум открыт им, и кто открывает его по своей воле. Господь свидетель, я сделал бы это, но они не хотят входить в неискушенную душу. И чернокнижник не нужен им, он не вместит их чистоты. Им нужен тот, в чьи дни волшебство еще не стало злом… и все же, он должен быть способным к покаянию. Скажу прямо, им требуется хорошее, но не слишком хорошее орудие. Кроме тебя, у нас, в западной части мира, таких людей нет. Ты же…
Он остановился, ибо Мерлин встал, и из уст его вырвался дикий вопль, подобный звериному реву, хотя это было древним кельтским плачем. Рэнсом даже испугался, увидев, как по длинной бороде бегут крупные, детские слезы. Все римское слетело с волшебника, он был теперь не знающим стыда чудищем, воющим на диких наречиях, одно из которых напоминало кельтский язык, другое – испанский.
– Прекрати! – закричал Рэнсом. – Не срами и себя, и меня!
Безумие прекратилось сразу. Мерлин сел в кресло. Как ни странно, он ничуть не был смущен тем, что до такой степени утратил власть над собой.
– И для меня, – продолжил Рэнсом, – непросто встретить тех, кто спускается в мой дом. На сей раз придут не только Малакандра и Переландра. Я не знаю, как сможем мы глядеть им в лицо. Но мы не вправе глядеть в лицо Божье, если от этого откажемся.
Волшебник ударил ладонью по колену.
– Не слишком ли мы поспешны?! – воскликнул он. Ты – Пендрагон, но и я – верховный советник королевства, и я посоветую тебе иное. Если силы уничтожат нас, да свершится воля Божья. Но дошло ли до этого, сэр? Ваш саксонский король, сидящий в Виндзоре, может помочь нам.
– Он ничем не может помочь.
– Если он так слаб, почему бы его не свергнуть?
– Я не собираюсь свергать королей. Их помазал на царство архиепископ. В Логрисе я Пендрагон, в Британии же – королевский подданный.
– Значит, графы, легаты, епископы, творят зло без его ведома?
– Творят, конечно, но не они нам опасны.
– Разве мы не можем встретить врагов в честном бою?
– Нас четверо мужчин, пять женщин и медведь.
– Некогда Логрис состоял из меня, одного рыцаря и двух отроков. Но мы победили.
– Сейчас не то. У них есть орудие, называемое прессой. Мы умрем, и никто даже не узнает о нас.
– А как же священство? Неужели нам не помогут служители Божьи? Не может быть, чтобы они все развратились.
– Вера теперь разорвана на куски. Но если бы она и была едина, христиан очень мало. Не жди от них помощи.
– Тогда позовем людей из‑за моря. Разве не явятся на наш зов христиане из Нейстрии, Ирландии, Бенвика, чтобы очистить эту землю?
– Христианских королей больше нет. Страны, о которых ты говоришь, стали частью Британии или еще глубже погрязли в неправде.
– Что ж, обратимся к тому, кто поставлен сражать тиранов и оживлять королевства. Воззовем к императору.
– Императора больше нет.
– Нет императора?!. – начал Мерлин и не смог продолжить. Несколько минут он сидел молча, потом проговорил:
– Да, в дурной век я проснулся. Но если весь Запад отступил от Бога, быть может, мы не преступим закона, если взглянем дальше. В мои времена я слышал, что существуют люди, не знающие нашей веры, но почитающие Творца. Сэр, мы вправе искать помощи там, за Византийским царством. Вам виднее, что там есть – Вавилон ли, Аравия – ибо ваши корабли обошли вокруг всего света.
Рэнсом покачал головой.
– Ты все поймешь, – сказал он. – Яд варили здесь, у нас, но он теперь повсюду. Куда бы ты не пошел, ты увидишь машины, многолюдные города, пустые троны, бесплодные ложа, обманные писания, людей, обольщаемых ложной надеждой и мучимых истинной скорбью, поклоняющихся творенью своих рук, но отрезанных от матери своей, Земли, и отца своего, неба. Можешь идти на Восток, пока он не станет Западом, и ты не вернешься сюда через океан. Повсюду ты увидишь лишь тень крыла, накрывающего Землю.
– Значит, это конец? – тихо спросил Мерлин.
– Нет, – спокойно произнес Рэнсом, – это значит, что есть только один путь. Да, если бы враги наши не ошиблись, у нас не было бы надежды. Если бы собственной злой волей они не ворвались туда, к нездешним силам, теперь бы настал их час победы. Но они пришли к богам, которые не шли к ним, и обрушили на себя небо. Тем самым, они погибнут. Ты видишь, другого выхода нет. Осталось одно: повинуйся.
Бледное лицо стало медленно меняться, понемногу обретя почти звериное выражение – очень земное, очень простое и довольно хитрое.
– Знал бы я это все, – сказал наконец Мерлин, – я бы тебя усыпил, как твоего шута.
– Я плохо сплю с тех пор, как побывал на небе, – ответил Рэнсом.
14. «ЖИЗНЬ – ЭТО ВСТРЕЧА»
День и ночь слились для Марка, и он не знал, сколько минут или часов проспал он, когда к нему снова явился Фрост. Он так и не ел. Профессор пришел спросить, надумал ли он что‑нибудь после их разговора. Марк решил сдаваться не сразу, чтобы получилось убедительней, и ответил, что его беспокоит лишь одно: он не совсем понял, какая польза ему в частности и людям вообще от сотрудничества с макробами. Он ясно видит, что все действуют так или иначе отнюдь не из долга перед обществом (это лишь пристойный ярлык). Человеческие поступки порождает организм, и их различие определяется особенностями поведенческих моделей данного социума. Что заменит теперь эти внеразумные мотивы? На каком основании следует отныне осуждать или одобрять тот или иной поступок?
– Если вы хотите употреблять эти термины, – ответил Фрост, – лучший ответ дал нам Уолдингтон. Существование само себя оправдывает. Процесс, именуемый эволюцией, оправдан тем, что именно так действуют биологические сообщества. Контакт между высшим биологическим видом и макробами оправдан тем, что он существует.
– Значит, – заключил Марк, – нет смысла спрашивать, не движется ли Вселенная к тому, что мы назвали бы злом?
– Никакого смысла, – подтвердил Фрост. – Суждение ваше отражает лишь чувства. Сам Гексли впадал в такую ошибку, называя «беспощадной» борьбу за существование. На самом деле, по словам Уолдингтона, межвидовая борьба настолько же вне эмоций, как и интеграл. При объективном взгляде на вещи нет внешнего, нравственного критерия, порожденного чувством.
– Следовательно, – снова сделал вывод Марк, – нынешний ход событий оправдан, даже если он приведет к исчезновению жизни?
– Несомненно, – снова подтвердил Фрост, – если вы настаиваете на таких понятиях. На самом деле вопрос ваш вообще не имеет смысла. Он предполагает причинно‑следственную модель мира, идущую от Аристотеля, который, в свою очередь, лишь привел в систему опыт аграрного общества времен железного века. Вы попусту тратите время, размышляя о причинах. Не причина порождает действие, а действие причину. Когда вы достигнете объективности, вы увидите, что все мотивы – чисто телесны, субъективны. Вам они не будут нужны. Их место займет то, чего вы сейчас не поймете. Действия же ваши станут много эффективней.
– Понимаю… – протянул Марк. Такую философию он знал и действительно понял, что именно к этому придешь, если думать, как он думал прежде. Это было ему чрезвычайно противно.
– Именно поэтому, – продолжал Фрост, – вы должны пройти систематический курс объективности. Представьте себе, что у вас убивают в зубе нерв. Мы просто уничтожим систему инстинктивных предпочтений, как этических, так и эстетических, какой бы логикой они не прикрывались.
– Ясно, – сказал Марк и прибавил про себя, что если уж освобождаться от этики, он бы прежде всего расквасил профессору морду.
Потом Фрост куда‑то его повел и чем‑то покормил. Здесь тоже не было окон, горел свет. Профессор стоял и смотрел на Марка. Тот не знал, нравится ли ему еда, но был слишком голоден, чтобы отказаться, да это и не было возможно. Когда он поел, Фрост повел его к Голове, но, как ни странно, ни мыться, ни облачаться в одежды хирурга они не стали, а быстро прошли к какой‑то дверце. Впуская его неизвестно куда, Фрост сказал: «Я скоро вернусь», – и ушел.
Сперва в этой комнате Марку стало легче. Он увидел длинный стол, как для заседаний, восемь‑девять стульев, какие‑то картины и, что удивительно, стремянку. Окон снова не было, а свет поистине напоминал дневной, таким он был серым и холодным. Не было и камина, и казалось, что в комнате очень холодно.
Наблюдательный человек заметил бы, что все немного смещено. Марк почувствовал что‑то, но причину понял не сразу. Дверь направо от него была не совсем посередине стены и казалась чуточку кривой. Он начал искать, с какой же точки это впечатление пропадает, но ему стало страшно, и он отвернулся.
Тогда он увидел пятна на потолке. Не от сырости, настоящие черные пятна, разбросанные там и сям по бледно‑бурому фону. И не так уж много, штук тридцать… а, может, все сто? Он решил не попадаться в ловушку, не считать их. Но его раздражало, что они расположены без всякого порядка. А может, он есть? Вон там, справа, пять штук… Да, какой‑то рисунок проступает. Потому это все так и уродливо, что вроде проступает, а вроде и нет… Тут Марк понял, что это еще одна ловушка, и стал смотреть вниз.
Пятна были и на столе, только белые. Не совсем круглые. Кажется, они были разбросаны так же, как и те, на потолке. Или нет? Ах, вон оно что! Сейчас, сейчас… Рисунок такой же, но не везде. Марк снова одернул себя, встал и принялся рассматривать картины.
Некоторые из них принадлежали к школе, которую он знал. Был среди них портрет девицы, разинувшей рот, который всплошную порос изнутри густыми волосами, и каждый волос был выписан с фотографической точностью, хоть потрогай. Был большой жук, играющий на скрипке, пока другой жук его ест, и человек с пробочниками вместо рук, купающийся в мелком, невеселой окраски море, под зимним закатным небом. Но больше было других картин. Сперва они показались Марку весьма обычными, хотя его и удивило, что сюжеты их, главным образом – из Евангелия. Только со второго или третьего взгляда он заметил, что фигуры стоят как‑то странно. И кто это между Христом и Лазарем? Почему под столом Тайной Вечери столько мелких тварей? Только ли из‑за освещения каждая картина похожа на страшный сон? Когда Марк задал себе эти вопросы, обычность картин стала для него самым страшным в них. Каждая складка, каждая колонна значили что‑то, чего он понять не мог. Перед этим сюрреализм казался просто дурачеством. Когда‑то Марк слышал, что «крайнее зло невинно для непосвященных», и тщетно пытался это понять. Теперь он понял.
Отвернувшись от картин, он снова сел. Он знал, что никто не собирается свести его с ума в том смысле, в каком он, Марк, понимал эти слова прежде. Фрост делал то, что сказал. Комната эта была первым классом объективности – здесь начиналось уничтожение чисто человеческих реакций, мешавших макробам. Дальше пойдет другое – он будет есть какую‑нибудь мерзость, копаться в крови и грязи, выполнять ритуальные непристойности. С ним ведут себя честно: ему предлагают то же самое, что прошли и они, чтобы отделиться от всех людей. Именно так Уизер стал развалиной, а Фрост – твердой сверкающей иглой.
Примерно через час длинная, словно гроб, комната привела к тому, о чем ни Фрост, ни Уизер не помышляли. Вчерашнего нападения не было, и – потому ли, что он через это прошел, потому ли, что неизбежность смерти уничтожила привычную тягу к избранным, или потому, наконец, что он воззвал о помощи – но нарочитая извращенность комнаты породила в его памяти дивный образ чистоты и правды. На свете существовала нормальная жизнь. Он никогда об этом не думал, но она существовала и была такой же реальной, как то, что мы трогаем, едим, любим. К ней имели отношение и Джейн, и яичница, и мыло, и солнечный свет, и галки, кричавшие в Кьюр Харди, и мысли о том, что где‑то сейчас день. Марк не думал о нравственности, хотя (что почти то же самое) впервые приобщился к нравственному опыту. Он выбирал, и выбрал нормальное. Он выбрал «все это». Если научная точка зрения уводит от «этого», черт с ней! Решение так потрясло его, что у него перехватило дух. Такого он еще не испытывал. Теперь ему было все равно, убьют его или нет.
Я не знаю, надолго ли его хватило бы, но когда Фрост вернулся, он был на самом подъеме. Фрост повел его в комнату, где пылал камин и спал какой‑то человек. Свет, игравший на хрустале и серебре, так развеселил его сердце, что он едва слушал, когда Фрост приказывал сообщить им с Уизером, если человек проснется. Говорить ничего не надо, да это и бесполезно, так как неизвестный не понимает по‑английски.
Фрост ушел. Марк огляделся с новой, неведомой ему беспечностью. Он не знал, как остаться живым, если не служить макробам, но пока можно было хорошо поесть. Еще бы и покурить у камина…
– Тьфу ты! – сказал он, не найдя сигарет в кармане. Тогда человек открыл глаза.
– Простите… – начал Марк.
Человек присел в постели и мигнул в сторону дверей.
– Э? – сказал он.
– Простите… – повторил Марк.
– Э? – снова сказал человек. – Иностранцы, да?
– Вы говорите по‑английски? – изумился Марк.
– Ну!.. – сказал человек, помолчал и добавил: – Хозяин, табачку не найдется?
– Кажется, – сказала Матушка Димбл, – больше тут сделать ничего нельзя. Цветы расставим попозже.
Обращалась она к Джейн, а обе они находились в павильоне, то есть в каменном домике у той калитки, через которую Джейн впервые вошла в усадьбу. Они готовили комнату для Айви и ее мужа. Сегодня кончался его срок, и Айви еще с вечера поехала в город, чтобы переночевать у родственницы и встретить его утром, когда он выйдет за ворота тюрьмы.
Когда м‑сс Димбл сказала, куда пойдет, м‑р Димбл отвечал: «Ну, это надолго». Я – мужчина, как и он, и потому не знаю, что могли делать здесь две женщины столько часов кряду. Джейн и та удивлялась. Матушка Димбл обратила немудреное занятие не то в игру, не то в обряд, напоминавший Джейн, как в детстве она помогала украшать церковь перед Пасхой или Рождеством. Вспоминала она и эпиталамы XVI века, полные шуток, древних суеверий и сентиментальных предрассудков, касающихся супружеского ложа. Джейн вспоминала добрые знаменья у порога, фей у очага и все то, чего и в малой мере не было в ее жизни. Совсем недавно она сказала бы, что это ей не нравится. И впрямь, как нелеп этот строгий и одновременно лукавый мир, где сочетаются чувственность и чопорность, стилизованный пыл жениха и условная скромность невесты, благословения, непристойности и полная уверенность в том, что всякий, кроме главных действующих лиц, должен напиться на свадьбе до бесчувствия! Почему люди сковали ритуалами самое свободное на свете? Однако сейчас она сама не знала, что чувствует, и была уверена лишь в том, что Матушка Димбл – в этом мире, а она – нет. Матушка хлопотала и восторгалась совсем как те женщины, которые могли отпускать шекспировские шуточки о гульфиках или рогоносцах, и тут же преклонять колени перед алтарем. Все это было очень похоже – в умном разговоре она и сама могла говорить о непристойных вещах, а м‑сс Димбл, дама 90‑х годов, сделала бы вид, что не слышит. Быть может, и погода разволновала Джейн – мороз кончился, и стоял один из тех мягких светлых дней, какие бывают в начале зимы.
Вчера, до отъезда, Айви рассказывала ей про свои дела. Муж ее украл немного денег в прачечной, где работал истопником. Случилось это раньше, чем они познакомились, он был тогда в плохой компании. Когда она стала с ним гулять, он совсем исправился, но тут‑то все и открылось, и его посадили через полтора месяца после свадьбы. Джейн почти ничего не говорила. Айви не стыдилась того, что муж ее в тюрьме, а Джейн не могла проявить ту машинальную доброту, с которой принимают горести бедных. Не могла она проявить и широты взглядов, ибо Айви твердо знала, что красть нельзя. Однако, ей и в голову не приходило, что это как‑нибудь может повлиять на ее отношения с муж??м – словно, выходя замуж, идешь и на этот риск.
– Не выйдешь замуж, – говорила она, – никогда о них все не узнаешь!
Джейн с этим согласилась.
– Да у них то же самое, – продолжала Айви. – Отец говорил: в жизни бы не женился, если бы знал, как мать храпит!
– Это не совсем одно и то же, – возразила Джейн.
– Ну, не одно, так другое, – не сдавалась Айви. – Им с нами тоже нелегко. Приходится им, беднягам, жениться, если они не подлецы, а все ж, скажу, и с нами намучаешься, даже с самыми хорошими. Помню, еще до вас, матушка что‑то говорила своему доктору, а он сидит, читает, чиркает чего‑то карандашиком, а ей все «Да, да», «Да, да». Я говорю: «Вот, матушка, как они с женами. Даже и не слушают». А она мне и ответ: «Айви, разве можно слушать все, что мы говорим?» Я уступать не хотела, особенно при нем, и отвечаю: «Можно». Но вообще‑то она права. Бывает, говоришь ему, говоришь, он спросит: «Что?», а ты сама и не помнишь.
– Это совсем другое дело, – опять не согласилась Джейн. – Так бывает, когда у людей разные интересы…
– Ой, а как там мистер Стэддок? – вспомнила вдруг Айви. – Я бы на вашем месте и ночи не спала! Но вы не бойтесь, хозяин все уладит, все будет хорошо…
…Сейчас м‑сс Димбл ушла в дом за какой‑то вещью, которая должна была завершить их работу. Джейн немного устала и присела на подоконник, подпершись рукой. Солнце светило так, что стало почти жарко. Она знала, что если Марк вернется, она будет с ним, но это не пугало ее, ей просто было совсем не интересно. Теперь она не сердилась, что он когда‑то предпочитал ее самое – ее словам, а свои слова – и тому, и другому. Собственно, почему он должен ее слушать? Такое смирение было бы ей приятно, если бы речь шла о ком‑нибудь более увлекательном, чем Марк. Конечно, с ним придется обращаться по‑новому, когда они встретятся; но радости в этих мыслях она не находила, словно предстояло заново решить скучную задачу, на исписанном уже листке. Джейн застыдилась, что ей настолько все равно, и тут же поняла, что это не совсем так. Впервые она представила себе, что Марк может и не вернуться. Она не подумала, как будет жить после этого сама, она просто увидела, что он лежит на кровати, и руки его (к худу ли, к добру ли, но непохожие ни на чьи другие) вытянуты и неподвижны, как у куклы. Ей стало холодно, хотя солнце пекло гораздо сильнее, чем бывает в это время года. Кроме того, стояла такая тишина, что она слышала, как прыгает по дорожке какая‑то птичка. Дорожка вела к калитке, через которую она сама вошла в усадьбу. Птичка допрыгала до самого павильона и присела к кому‑то на ногу. Только тогда Джейн обратила внимание, что очень близко, на пороге, кто‑то сидит – так тихо, что она его до сих пор и не заметила.
Женщина, сидевшая на пороге, была одета в длинное, огненного цвета платье с очень низким вырезом. Такое платье Джейн видела у жрицы, на минойской вазе. Лицо и руки у женщины были темно‑золотистые, как мед, голову она держала очень прямо, на щеках ее выступал густой румянец, а черные, большие, коровьи глаза смотрели прямо на Джейн. Женщина ничуть не походила на м‑сс Димбл, но, глядя на нее, Джейн увидела то, что сегодня пыталась и не могла уловить в матушкином лице. «Она смеется надо мной, – подумала Джейн. – Нет, она меня не видит». Стараясь не смотреть на нее, Джейн вдруг обнаружила, что сад кишит каким‑то смешными существами, толстыми, крохотными, в красных колпачках с кисточками – вот они, без сомнения, над ней смеялись. Они показывали на нее пальцами, кивали, подмигивали, гримасничали, кувыркались, ходили на головах. Джейн не испугалась – быть может, потому, что становилось все жарче – но рассердилась, ибо снова подумала то, что уже мелькало у нее в мыслях: а вдруг мир просто глуп? При этом ей припомнилось, как громко, нагло, бесстыже смеялись ее холостые дядюшки, и как она злилась на них в детстве. Собственно, от этого и пыталась она убежать, когда, еще в школе, так захотела приобщиться к умным спорам.
И тут она все‑таки испугалась. Женщина встала – она была огромна – и, полыхая пламенем платья, вошла в комнату. Карлики кинулись за ней. В руке у нее оказался факел, и комнату наполнил сладкий, удушливый дым. «Так и поджечь недолго…» – подумала Джейн, но тут же заметила, что карлики переворачивают все вверх дном. Они стащили простыни на пол, кидали вверх подушки, перья летели, и Джейн закричала: «Да что же это вы?» Женщина коснулась факелом вазы, и от вазы поднялся столб пламенного света. Женщина коснулась картины, свет хлынул и из нее. Все пылало, когда Джейн поняла, что это не пламя и не свет, а цветы. Из ножек кровати выползал плющ, на красных колпачках цвели розы, и лилии, выросшие у ног, показывали ей желтые языки. От запахов, жары и шума ей стало дурно, но она и не подумала, что это сон. Сны принимают за видения; видения не принимают за сны.
– Джейн! Джейн! – раздался голос м‑сс Димбл. – Что это с вами?
Джейн выпрямилась. Все исчезло, только постель была разворочена. Сама она сидела на полу. Ее знобило.
– Что случилось? – спросила м‑сс Димбл.
– Не знаю, – ответила Джейн.
– Вам плохо?
– Я должна видеть м‑ра Рэнсома. Нет, все в порядке, вы не волнуйтесь, я сама встану. Только мне надо его сейчас же видеть.
Душа у мистера Бультитьюда была мохнатой, как и его тело. В отличие от человека, он не помнил ни зоологического сада, откуда сбежал, ни прихода своего в усадьбу, ни того, как он доверился ее обитателям и привязался к ним. Он не знал, что любит их и верит им. Он не знал, что они – люди, а он – медведь. Он вообще не знал, что он – это он; все, выраженное словами «я» и «ты», не вмещалось в его сознании. Когда Айви давала ему меду, он не различал ее и себя; благо являлось к нему, и он радовался. Конечно, вы можете сказать, что любовь его была корыстной – он любил людей за то, что они его кормят, греют, ласкают, утешают. Но с корыстной любовью обычно связывают расчет и холод; у него же их не было. На своекорыстного человека он походил не больше, чем на великодушного. В жизни его не было прозы. Выгоды, которые мы можем презирать, сияли для него райским светом. Если бы один из нас вернулся на миг в теплое, радужное озерцо его души, он подумал бы, что попал на небо – и выше, и ниже нашего разума все не так, как здесь, посредине. Иногда нам является из детства образ безымянного блаженства или страха, не связанного ни с чем – чистое качество, прилагательное, плывущее в лишенном существительных мире. В такие минуты мы и заглядываем туда, где м‑р Бультитьюд жил постоянно, нежась в теплой и темной водице.
Сегодня, против обыкновения, его пустили погулять без намордника. Намордник ему надевали потому, что он любил фрукты и сладкие овощи. «Он смирный, – объясняла Айви своей бывшей хозяйке, – а вот честности в нем нет. Дай ему волю, все подъест». Сегодня намордник надеть забыли, и м‑р Бультитьюд провел приятнейшее утро среди брюквы. Попозже, когда перевалило за полдень, он подошел к садовой стене. У стены рос каштан, на который легко влезть, чтобы потом спрыгнуть на ту сторону, и медведь стоял, глядя на этот каштан. Айви Мэггс описала бы то, что он чувствовал, словами: «Он‑то знает, что туда ему нельзя!» М‑р Бультитьюд видел все иначе. Нравственных запретов он не ведал, но Рэнсом запретил ему выходить из сада. И вот, когда он приближался к стене, таинственная сила вставала перед ним, словно облако; однако, другая сила влекла его на волю. Он не знал, в чем тут дело, и даже не мог подумать об этом. На человеческом языке это вылилось бы не в мысль, а в миф. Мистер Бультитьюд видел в саду пчел, но не видел улья. Пчелы улетали туда, за стену, и его тянуло туда же. Я думаю, ему мерещились бескрайние луга, бесчисленные ульи и крупные, как птицы, пчелы, чей мед золотистей, гуще, слаще самого меда.
Сегодня он терзался у стены больше, чем обычно. Ему не хватало Айви Мэггс. Он не знал, что она живет на свете, и он не вспомнил ее, как человек, но ему чего‑то не хватало. Она и Рэнсом, каждый по‑своему, были его божествами. Он чувствовал, что Рэнсом – важнее; встречи с ним были тем, чем бывает для нас, людей, мистический опыт, ибо этот человек принес с Переландры отблеск потерянной нами власти и мог возвышать души зверей. При нем м‑р Бультитьюд мыслил немыслимое, делал невозможное, трепетно внемля тому, что являлось из‑за пределов его мохнатого мира. С Айви он радовался, как радуется дикарь, трепещущий перед далеким Богом, среди незлобивых богов рощи и ручья. Айви кормила его, бранила, целый день говорила с ним. Она твердо верила, что он все понимает. В прямом смысле это было неверно, слов он не понимал. Но речь самой Айви выражала не столько мысли, сколько чувства, ведомые и Бультитьюду – послушание, довольство, привязанность. Тем самым, они действительно друг друга понимали.
М‑р Бультитьюд трижды подходил к дереву и трижды отступал. Потом, очень тихо и воровато, он полез на дерево. Над стеной он посидел с полчаса, глядя на зеленый откос, спускающийся к дороге. Иногда его клонило в сон, но в конце концов он грузно спрыгнул. Тут он так перепугался, что сел на траву и не двигался, пока не услышал рокота.
На дороге показался крытый грузовик. Один человек в институтской форме вел его, другой сидел рядом.
– Эй, глянь! – крикнул второй. – Может, прихватим?
– Чего это? – поинтересовался водитель.
– Возьми глаза в руки!
– Ух ты! – дошло наконец до шофера. – Медведюга! А это не наш?
– Наша в клетке сидит, – отозвался его спутник.
– Может, сбежал?
– Досюда бы не дошлепала. Это ж по сорок миль в час! Нет, это не она. Давай‑ка и этого возьмем.
– Приказа нет, – возразил водитель.
– Так‑то оно так, да ведь волка нам не дали…
– Ничего не попишешь. Вот старуха собачья. Не продам, говорит, ты свидетель. Уж мы ей и то, и это, и опыты у нас – одно удовольствие, и зверей жуть как любят… В жизни столько не врал. Не иначе, Лин, как ей натрепались.
– Верно, Сид, мы ни при чем. Только нашим это все одно. Или делай дело, или сматывай.
– Сматывай? – Сида передернуло. – Хотел бы я видеть, кто от них смотался!
Лин сплюнул.
– В общем, – заключил Сид, – чего его тащить?
– Все лучше, чем с пустыми руками, – резонно возразил Лин. – Они, медведи, денег стоят. Да и нужен им, я сам слышал. А тут вон, гуляет.
– Ладно, – не без иронии заметил Сид. – Приспичило – веди его сюда.
– А мы его усыпим…
– Свой обед не дам! – ответил Сид.
– Да уж, от тебя жди, – буркнул Лин, вынимая промасленный сверток. – Скажи спасибо, что я капать не люблю.
– Прям, не любишь! – проворчал Сид. – Все знаем!
Тем временем Лин извлек из свертка толстый бутерброд и полил его чем‑то из склянки. Потом он открыл дверцу, вылез и сделал один шаг, придерживая дверцу рукой. Медведь сидел очень тихо ярдах в шести от машины. Лин изловчился и швырнул ему бутерброд.
Через пятнадцать минут медведь лежал на боку, тяжело дыша. Лин и Сид завязали ему морду, связали лапы и с трудом поволокли к машине.
– Надорвался я чего‑то… – прокряхтел Сид, держась за левый бок.
– Трам‑тара‑рам, твою мать, – выругался Лин, отирая пот, заливавший ему глаза. – Поехали!
Сид влез на свое место и посидел немного, с трудом выговаривая: «Ох ты, Господи» через равные промежутки времени. Потом он завел мотор, и машина скрылась за поворотом.
Теперь, когда Марк не спал, время его делилось между незнакомцем и уроками объективности. Мы не можем подробно описать, что именно он делал в комнате, где потолок был испещрен пятнами. Ничего значительного и даже страшного не происходило, но подробности для печати не подходят и по детскому своему непотребству, и просто по нелепости. Иногда Марк чувствовал, что хороший, здоровый смех мигом разогнал бы здешнюю атмосферу, но, к несчастью, о смехе не могло быть и речи. В том и заключался ужас, что мелкие пакости, способные позабавить лишь глупого ребенка, приходилось делать с научной скрупулезностью, под надзором Фроста, который держал секундомер и записывал что‑то в книжечку. Некоторых вещей Марк вообще не понимал. Например, нужно было время от времени влезать на стремянку и трогать какое‑нибудь пятно, просто трогать, а потом спускаться. Но то ли под влиянием всего остального, то ли еще почему, упражнение это казалось ему самым непотребным. А образ нормального укреплялся с каждым днем. Марк не знал до сих пор, что такое идея; он думал, что это – мысль, мелькающая в сознании. Теперь, когда сознание постоянно отвлекали, а то и наполняли гнусными образами, идея стояла перед ним, сама по себе, как гора, как скала, которую не сокрушишь, но на которую можно опереться.
Спастись ему помогал и незнакомец. Трудно сказать, что они беседовали. Каждый из них говорил, но получалась не беседа, а что‑то другое. Незнакомец изъяснялся так туманно и питал такую склонность к пантомиме, что более простые способы общения на него не действовали. Когда Марк объяснил, что табачка у него нет, он шесть раз кряду высыпал на колено воображаемый табак, чиркал невидимой спичкой и изображал на своем лице такое наслаждение, какого Марку встречать не доводилось. Тогда Марк сказал, что «они» – не иностранцы, но люди чрезвычайно опасные, и лучше всего не вступать с ними в общение.
– Ну!.. – отвечал незнакомец. – Э?.. – и, не прикладывая пальца к губам, разыграл сплошную пантомиму, означавшую то же самое. Отвлечь его от этой темы было нелегко. Он то и дело повторял: «Чтоб я, да им?.. Не‑е! Это уж спасибо… мы‑то с вами… а?» – и взгляд его говорил о таком тайном единении, что у Марка теплело на сердце. Решив, наконец, что тема исчерпана, Марк начал было:
– Значит, нам надо… – но незнакомец снова принялся за свою пантомиму, повторяя то «э?», то «э!»
– Конечно, – прервал наконец Марк. – Мы с вами в опасности. Поэтому…
– Э!.. – сказал незнакомец. – Иностранцы, да?
– Нет, нет, – зашептал Марк. – Они англичане. Они думают, что вы иностранец. Поэтому они…
– Ну! – прервал его в свою очередь незнакомец. – Я и говорю – иностранцы! Уж я‑то их знаю! Чтоб я им… да мы с вами… э!
– Я все думаю, что бы нам предпринять, – попытался снова завладеть инициативой Марк.
– Ну, – подбодрил его незнакомец.
– И вот… – начал Марк, но незнакомец с силой воскликнул:
– То‑то и оно!
– Простите? – не понял Марк.
– А! – махнул рукой незнакомец и выразительно похлопал себя по животу.
– Что вы имеете в виду? – спросил Марк.
Незнакомец ударил одним указательным пальцем по другому, словно отсчитал первый довод в философском споре.
– Сырку поджарим, – пояснил он.
– Я сказал «предпринять» в смысле побега, – несколько удивился Марк.
– Ну, – кивнул незнакомец. – Папаша мой, понимаешь. В жизнь свою не болел. Э? Сколько жил, не болел.
– Это поразительно, – признал Марк.
– Ну! – подтвердил незнакомец. – Брюхо, понимаешь. Э? – и он пояснил наглядно, чем именно не болел его отец.
– Вероятно, ему был полезен свежий воздух, – предположил Марк.
– А почему? – спросил незнакомец, с удовольствием выговаривая такую связную фразу. – Э?
Марк хотел ответить, но его собеседник дал понять, что вопрос риторический.
– А потому, – торжественно произнес он, – что жарил сыр. Воду гонит из брюха. Гонит воду. Э? Брюхо чистит. Ну!
Следующие беседы шли примерно так же. Марк всячески пытался понять, как его собеседник попал в Беллбэри, но это было нелегко. Почетный гость говорил, преимущественно, о себе, но речь его состояла из каких‑то ответов неизвестно на что. Даже тогда, когда она становилась яснее, Марк не мог разобраться в иллюзиях, ибо ничего не знал о бродягах, хотя и написал статью о бродяжничестве. Примерно получалось, что совершенно чужой человек заставил незнакомца отдать ему одежду и усыпил его. Конечно, в такой форме историю Марк не слышал. Бродяга говорил так, словно Марк все знает, а любой вопрос вызывал к жизни лишь очередную пантомиму. После долгих и обильных возлияний Марк добился лишь возгласов «Ну! Он уж, прямо скажем!..», «Сам понимаешь!..», «Да, таких поискать!..» Произносил это бродяга с умилением и восторгом, словно кража его собственных брюк восхищала его.
Вообще, восторг был основной его эмоцией. Он ни разу не высказал нравственного суждения, не пожаловался, ничего не объяснил. Судя по рассказам, с ним вечно творилось что‑то несправедливое и непонятное, но он никогда не обижался, и даже радовался, лишь бы это было в достаточной мере удивительно.
Нынешнее положение не вызывало в нем любопытства. Он его не понимал, но он и не ждал смысла от того, что с ним случалось. Он горевал, что нет табачку и считал иностранцев опасными, но знал свое: надо побольше есть и пить, пока дают. Постепенно Марк этим заразился. От бродяги плохо пахло, он жрал, как зверь, но непрерывная пирушка, похожая на детский праздник, перенесла Марка в то царство, где веселились мы все, пока не пришло время приличий. Каждый из них не понимал и десятой части того, что говорит другой, но они становились все ближе. Лишь много лет спустя Марк понял, что здесь, где не осталось места тщеславию, а надежды было не больше, чем на кухне у людоеда, он вошел в самый тайный и самый замкнутый круг.
Время от времени их уединение нарушали. Фрост, или Уизер, или они оба, приводили какого‑нибудь человека, который обращался к бродяге на неведомом языке, не получал ответа и удалялся. Бродяга, пок??рный непонятному и по‑звериному хитрый, держался превосходно. Ему и в голову не приходило разочаровывать своих тюремщиков, ответив по‑английски. Он вообще не любил разочаровывать. Спокойное безразличие, сменявшееся иногда загадочно‑острым взглядом, сбивало его хозяев с толку. Уизер тщетно искал на его лице признаки зла, но не было там и признаков добродетели. Такого он еще не встречал. Он знал дураков, знал трусов, знал предателей, возможных сообщников, соперников, честных людей, глядевших на него с ненавистью, но такого он не знал.
Так шли дела, пока, наконец, все не переменилось.
– Похоже на ожившую картину Тициана, – подытожил Рэнсом, когда Джейн поведала ему, что с ней произошло.
– Да, но… – начала Джейн и замолчала. – Конечно, похоже, – снова заговорила она, – и женщина, и карлики… и свет. Мне казалось, что я люблю Тициана, но я, наверное, не принимала его картин всерьез. Знаете, все хвалят Возрождение…
– А когда вы увидели это сами, это вам не понравилось?
Джейн кивнула.
– А было ли это, сэр? – спросила она. – Бывают ли такие вещи?
– Да, – ответил Рэнсом, – я думаю, это было. Даже на этом отрезке земли, в нашей усадьбе, есть тысячи вещей, которых я не знаю. Кроме того, Мерлин многое притягивает. С тех пор, как он здесь, мы не совсем в ХХ веке. А вы… вы же ясновидящая. Наверное, вам суждено ее встретить. Ведь именно к ней вы бы и пришли, если бы не нашли другого.
– Я не совсем понимаю вас, – призналась Джейн.
– Вы говорите, она напомнила вам Матушку Димбл. Да, они похожи. Матушка в дружбе с ее миром, как Мерлин в дружбе с лесами и реками. Но сам он – не лес и не река. Матушка приняла все это и освятила. Она – христианская жена. А вы – нет. Вы и не девственница. Вы вошли туда, где нужно ждать встречи с этой женщиной, но отвергли все, что с ней случилось с той поры, как Мальдедил пришел на Землю. Вот она и явилась к вам, как есть, в бесовском обличье, и оно не понравилось вам. Разве не так было и в жизни?
– Вы считаете, – медленно выговорила Джейн, – что я что‑то подавляла в себе?
Рэнсом засмеялся тем самым смехом, который так сердил ее в детстве.
– Да, – кивнул он. – Не думайте, это не по Фрейду, он ведь знал лишь половину. Речь идет не о борьбе внешних запретов с естественными желаниями. Боюсь, во всем мире нет норы, где можно спрятаться и от язычества, и от христианства. Представьте себе человека, который брезгует есть пальцами, но отказывается от вилки.
Джейн залилась краской не столько от этих слов, сколько от того, что Рэнсом смеялся. Он ни в коей мере не был похож на Матушку Димбл, но вдруг ей открылось, что и он – с ними. Конечно, сам он не принадлежал к медно‑жаркому, древнему миру, но он был допущен туда, а она – нет. Открытие это поразило ее. Рухнула стародевичья мечта найти, наконец, мужчину, который понимает. До сих пор она принимала как данность, что Рэнсом – самый бесполый из знакомых ей мужчин, и только сейчас она поняла, что мужественность его сильнее и глубже, чем у других. Она твердо верила, что внеприродный мир чисто духовен, а слово это было для нее синонимом неопределенной пустоты, где нет ничего – ни половых различий, ни смысла. А, может быть, то, что там есть, все сильнее, полнее, ярче с каждой ступенькой? Быть может, то, что ее смущало в браке – не пережиток животных инстинктов или варварства, где царил самец, а первый, самый слабый отсвет реальности, которая лишь на самом верху являет себя во всей красе?
– Да, – продолжал между тем Рэнсом. – Выхода нет. Если бы вы отвращались от мужчин по призванию к девственности, Господь бы это принял. Такие души, минуя брак, находят много дальше ту, большую мужественность, которая требует и большего послушания. Но вы страдали тем, что старые поэты называли… Мы называем это гордыней. Вас оскорбляет мужское начало само по себе – золотой лев, крылатый бык, который врывается, круша преграды, в садик вашей брезгливой чопорности, как ворвались в прибранный павильон наглые карлики. От самца уберечься можно, он существует только на биологическом уровне. От мужского начала уберечься нельзя. Тот, кто выше нас всех, так мужественен, что все мы – как женщины перед Ним. Лучше примиритесь с вашим противником.
– Вы думаете, я стану христианкой? – с сомнением произнесла Джейн.
– Похоже на то, – подтвердил Рэнсом.
– Я… ?? еще не понимаю, причем тут Марк, – с усилием выговорила Джейн. Это было не совсем так. Мир, представший ей в видении, сверкал и бушевал. Впервые поняла она ветхозаветные образы многоликих зверей и колес. Но странное чувство смущало ее: ведь это она должна говорить о таких вещах христианам. Это она должна явить собой буйный и сверкающий мир им, знающим лишь бесцветную скорбь; это она должна показать самозабвенную пляску им, знающим лишь угловатые позы мучеников с витража. К такому делению мира она привыкла. Но сейчас витраж засветился перед ней лазурью и пурпуром. Где же в этом новом мире должен быть Марк? Во всяком случае, не там, где был. От нее отнимали что‑то утонченное, умное, современное, казалось бы – духовное, ничего не требовавшее от нее и ценившее в ней те качества, которые ценила она сама. А может, ничего такого и не было? Она спросила, чтобы оттянуть время:
– Кто же эта женщина?
– Точно не знаю, – ответил Рэнсом, – но догадываюсь. Вы слышали о том, что каждая планета воплощена еще раз, на каждой другой?
– Нет, сэр, не слышала.
– Тем не менее, это так. Небесные силы представлены и на Земле, а на любой планете есть маленький непадший двойник нашего мира. Вот почему был Сатурн в Италии, Зевс в Греции. Тогда, в древности, люди встречали именно этих, земных двойников, и звали их богами. Именно с ними вступали в общение такие, как Мерлин. Те же, что обитают дальше Луны, на Землю не спускались. В нашем случае это была земная Венера, Двойник небесной Переландры.
– Вы думаете, что…
– Я знаю. Этот дом – под ее влиянием. Даже в земле нашей есть медь. Кроме того, земная Венера будет сейчас очень активна. Ведь сегодня спустится ее небесная сестра.
– Я и забыла, – прошептала Джейн.
– Когда она придет, вы этого уже не забудете. Всем вам лучше собраться вместе – скажем, на кухне. Наверх не ходите. Сегодня ночью Мерлин предстанет перед пятью моими повелителями – перед Виритрильбией, Переландрой, Малакандрой, Глундом и Лургой. Они передадут ему силу.
– Что же он будет делать, сэр?
Рэнсом рассмеялся.
– Первый шаг нетруден. Беллбэри ищет кельтолога. Мы им его пошлем. Да, слава Господу Христу, мы пошлем им переводчика! Они сами призвали своего губителя. Первый шаг нетруден… и потом все пойдет легко. Когда сражаешься с теми, кто служит бесам, хорошо то, что бесы эти ненавидят своих слуг не меньше, чем нас. Как только несчастные пешки потеряют цену, их господа завершают работу сами, ломая свои орудия.
В дверь постучались, и вошла Грэйс Айронвуд.
– Вернулась Айви, сэр, – сказала она. – Вам бы лучше поговорить с ней. Нет, она одна. Она его и не видела. Срок он отбыл, но его не отпустили. Его послали в Беллбэри на лечение. Да, теперь так… Приговора не требуется… но Айви очень плачет, она совсем плоха.
Джейн вышла в сад. Она поняла, что говорил Рэнсом, но не приняла. Сравнение мужской любви с любовью Божией (даже если Бога нет) показалось ей кощунственным и непристойным. До сих пор религия представлялась ей чем‑то вроде прозрачных благовоний, тянущихся от души вверх, в небо, которое радо их принять. Тут она вспомнила, что ни Рэнсом, ни Димбл, ни Камилла никогда не говорили о религии. Они говорили о Боге. Они ведали не тонкий туман, поднимающийся вверх, но сильные, могучие руки, протянутые к нам, вниз. А вдруг ты сама – чье‑то создание, и этот Кто‑то любит тебя совсем не за то, что ты считаешь «собою»? Вдруг и Димблы, и Марк, и даже холостые дядюшки ценят в тебе не тонкость и не ум, а беззащитность? Вдруг Мальдедил согласен с ними, а не с тобой? На секунду ей предстал нелепый мир, где сам Бог не может понять ее и принять всерьез. И тогда, у кустов крыжовника, все преобразилось. Земля под кустами, мох на дорожке, кирпичный бордюр газона были такими же, и одновременно совсем иными. Она переступила порог. Она вошла в мир, где с нею был Кто‑то. Он терпеливо ждал ее, и защиты от Него не было. Теперь она знала, что Рэнсом говорил неточно, или она сама не понимала его слов. Веление и мольба, обращенные к Нему, не имели подобий. Все правые веления и мольбы проистекали от них, и только в этом свете можно было понять их, но оттуда, снизу, нельзя было догадаться ни о чем. Такого не было нигде. Вообще, ничего другого не было. Но все походило на это и лишь потому существовало. Маленький образ, который она называла «я», пропал в этой высоте, глубине, широте, как пропадает в небе птица. «Я» называлось другое существо, еще не знакомое ей, да и несуществующее, а только вызываемое к жизни велением и мольбой. То была личность, но и вещь, сотворенная на радость Другому, а через Него – и всем другим. Нет, ее творили сейчас, не спросясь, по‑своему, творили в ликовании и муке, но она не могла сказать, кто же ликует и мучится – она, или ее Творец.
Описание наше длинно. Самое же важное, что случилось с Джейн за всю ее жизнь, уместилось в миг, который едва ли можно назвать временем. Рука ее схватила лишь память о нем. И сразу изо всех уголков души заговорили голоса:
– Берегись! Не сходи с ума. Не поддавайся!
Потом – вкрадчивей и тише:
– Теперь и у тебя есть мистический опыт. Это интересно. Это очень редко. Ты будешь лучше понимать поэтов‑метафизиков.
И, наконец:
– Это понравится ему.
Но система укреплений, оберегавшая ее, пала, и она не слушала ничего.
15. БОГИ СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ
Усадьба св.Анны была пуста. Только в кухне, поближе к огню, сидели Димбл, Деннистоун, Макфи и дамы, а далеко от них, в синей комнате – Мерлин и Пендрагон.
Если бы кто‑нибудь поднялся по лестнице, ему, уже в коридоре, преградил бы путь не страх, а какой‑то физически ощутимый барьер. Если бы он все же прошел дальше, то услышал бы какие‑то звуки, но не голоса, и увидал бы свет под дверью синей комнаты. Двери бы он не достиг, но ему бы показалось, что дом дрожит и покачивается, словно корабль, и он почувствовал бы, что Земля – не прочное дно мироздания, а шарик, катящийся сквозь густую, населенную среду.
Мерлин и Рэнсом стали ждать своих гостей, как только село солнце. Рэнсом лежал. Мерлин сидел рядом, сложив руки и слегка подавшись вперед. Иногда по его бурой щеке скатывалась капля пота. Поначалу он думал ждать на коленях, но Рэнсом не разрешил этого и сказал:
«Помни, и они – служители, как и мы с тобой!» Занавесей не задернули, света не зажгли, но в окна вливался свет, сперва – морозно‑алый, потом – звездный.
На кухне пили чай, когда это случилось. До сих пор все старались говорить потише, как дети, которые боятся помешать взрослым, занятым чем‑нибудь непонятным – скажем, читающим завещание.
Вдруг все заговорили громко, разом, перебивая друг друга. Со стороны могло показаться, что они пьяные. Никому не удалось припомнить потом, о чем же шла речь. Они играли не словами, а мыслями, парадоксами, образами, выдумками, и гипотезы – то ли смешные, то ли серьезные – рождались одна за другой. Даже Айви забыла свою печаль, а Матушка Димбл часто рассказывала впоследствии, как муж ее и Артур, стоя у камина, с небывалым блеском вели словесный поединок, взмывая все выше, словно птицы или самолеты в бою. За всю свою жизнь она не слышала такого красноречия, такого точного ритма, таких догадок и метафор. Но вспомнить, о чем они говорили, она не могла.
Вдруг все замолкли, словно улегся ветер. Усталые, несколько ошеломленные, они глядели друг на друга; а наверху тем временем происходило иное.
Рэнсом вцепился в край тахты, Мерлин сжал губы. По комнате разлился свет, который никто из людей не мог бы ни назвать, ни вообразить. Больше ничего, только свет. Сердца у обоих мужчин забились так быстро, что им показалось, будто тела их сейчас разлетятся вдребезги. Но разлетелись не тела их, а разум: желания, воспоминания, мысли дробились и снова сливались в сверкающие шарики. К их счастью, они любили стихи; тот, кто не приучен видеть и два, и три, и больше смыслов, просто не вынес бы этого. Рэнсом, много лет изучавший слово, испытывал небесное наслаждение. Он находился в самом сердце речи, в раскаленном горниле языка. Ибо сам повелитель смыслов, вестник, герольд, глашатай явился в его дом. Пришел ойярс, который всех ближе к Солнцу – Виритрильбия, звавшийся Меркурием на Земле.
На кухне все растерянно молчали.
Джейн чуть было не заснула, но ее разбудил стук выпавшей из рук книги. Было очень тепло. Она всегда любила, когда в камине были дрова, а не уголь, но сейчас поленья пахли особенно приятно, так приятно, что твой ладан и фимиам. Димблы тихо беседовали друг с другом, лица их изменились. Теперь они казались не старыми, а вызревшими, как поле в августе, спокойное, золотое, налившееся исполненной надеждой. Артур что‑то шептал Камилле – на них она даже не могла смотреть – не из зависти, но потому, что их окружало невыносимое сиянье. У ног их – мягко и легко, как дети – плясали человечки – не грубые ?? не смешные, а светлые, с пестрыми крылышками и палочками из слоновой кости.
Мерлин и Рэнсом тоже ощутили, что стало теплее. Окна сами собой распахнулись, но извне ворвался не холод, а теплый ветер, который и летом редко дует в Англии. По щекам Рэнсома потекли слезы. Только он знал, какие моря и острова овевает это тепло. Мерлин этого не знал, но и у него заныла та неизлечимая рана, с которой родится человек, и жалобные, древние причитания полились из его уст. Стало еще жарче. Оба вздрогнули: Мерлин – потому что не понимал, Рэнсом – потому что понял. В комнату ворвался яркий свет, убийственный и жертвенный свет любви – не той, умягченной Воплощением, которую знают люди, а той, что обитает в третьем небе. Мерлин и Рэнсом ощущали, что сейчас она сожжет их. Они чувствовали, что не могут ее вынести. Так вошла Переландра, которую звали на Земле Афродитой или Венерой.
Внизу, на кухне, Макфи шумно двинул стулом по плитяному полу, словно грифелем по доске.
– Джентльмены! – воскликнул он. – Какой позор! Как нам не стыдно тут сидеть!
Глаза у Камиллы сверкнули.
– Идем! – воскликнула она. – Идем же!
– О чем вы, Макфи? – удивился Димбл.
– О битве! – вскричала Камилла.
– Один сержант говорил, – продекламировал Макфи, – «Ух, хорошо, когда ему голову проломишь!»
– Господи, какая гадость! – возмутилась Матушка Димбл.
– Это, конечно, жутковато, – согласилась Камилла, – но… ах, вскочить бы сейчас на коня!..
– Не понимаю, – произнес Димбл. – Я не храбр. Но, знаете ли, мне показалось, что я уже не так боюсь раны или смерти…
– Да, нас ведь могут убить, – вспомнила Джейн.
– Когда мы вместе, – сказала м‑сс Димбл, – было бы… нет, я совсем не герой… но все же, это хорошая смерть.
И каждый, взглянув на другого, подумал: «С ним не страшно умереть».
Наверху было примерно то же самое. Мерлин видел знамя Пречистой над тяжкою конницей бриттов, римлян и светловолосых варваров. Он слышал, как лязгают мечи о дерево щитов, как воют люди, свищут стрелы. Видел он и вечер, костры на холме, отражения звезд в кровавой воде, орлов в темнеющем небе…
Рэнсом, должно быть, вспоминал пещеры Переландры. Но это быстро прошло. Бодрый холод морским ветром ворвался к ним, и оба они ощутили неукоснительный ритм мирозданья, смену зимы и лета, танец атомов, повиновенье серафимов. Под грузом повиновения воля их держалась прямо, они стояли весело, трезво и бодро, не ведая ни страхов, ни забот, и жизнь обрела для них торжественную легкость победного шествия. Как человек, коснувшийся лезвия, Рэнсом узнал чистый холод Малакандры, которого звали на Земле Марсом, Маверсом, Тором, и приветствовал своих гостей на небесном языке.
Мерлину он сказал, что именно теперь нужно держаться, ибо первые трое – ближе к человеку, что‑то соответствует в них мужскому и женскому началу, их понять нам легче. В тех же, кто сейчас придет, тоже есть что‑то соответствующее роду – но не такому, какой ведом на Земле. К тому же, они сильнее, старше, и миров их не коснулось благое унижение органической жизни.
– Подбросьте поленьев, Деннистоун, – сказал Макфи.
– Похолодало, – согласился Димбл, и все подумали о жухлой траве, о мерзнущих птицах, о темной чаще.
Потом – о темноте ночи, потом – о беззвездной бездне вселенской пустоты, в которую канет всякая жизнь. Куда уходят годы? Может ли сам Господь Бог вернуть их? Печаль превращалась в сомненье – нужно ли вообще что‑нибудь понимать?
Сатурн, которого в небесах зовут Лургой, стоял в синей комнате. Перед его свинцово‑тяжкой древностью сами боги ощущали себя слишком молодыми. Он был стар и могуч, словно гора. Рэнсому и Мерлину стало очень холодно, и сила Лурги вливалась в них невыразимой печалью.
Внизу, на кухне (никто не мог потом вспомнить, как же это было) вдруг закипел чайник и запенился пунш. Кто‑то попросил Артура что‑нибудь сыграть.
Стулья сдвинули к стенам, начался танец. Никто не вспомнил потом, что же они танцевали. Они мерно хлопали в ладоши, кланялись, били об пол ногой, высоко подпрыгивали. Ни один из них не чувствовал себя смешным. Всем казалось, что кухня стала королевским дворцом, а танец величав и прекрасен, как торжественная церемония.
Синяя комната осветилась радостным светом. Перед первыми четырьмя человек склоняется; перед пятым он умирает, ибо если он не умрет, о?? засмеется. Даже если ты калека, твой шаг станет царственным, даже если ты нищий, лохмотья твои станут мантией. Праздничная радость, веселое величие, пышность и торжество исходили от пришельца. Чтобы создать отдаленное его подобие, мы трубим в трубы, бьем в колокола, воздвигаем триумфальные арки. Он был подобен зеленой волне, увенчанной тепло‑белой пеной и разбивающейся о скалы с грозным смехом; музыке на пиру, такой ликующей и такой высокой, что радость, родственная страху, охватывает гостей. Пришел царь царей, ойярс.
Глунд, которого звали на Земле Юпитером и, трепеща перед его творческой силой, принимали за самого Творца.
С приходом его в синей комнате воцарился праздник. Захваченные славословием, которое вечно поют пятеро совершенных, люди забыли на время, зачем те пришли. Но ойярсы напомнили об этом и даровали Мерлину новую силу.
Наутро он был другим. Он сбрил бороду, но главное – он больше не принадлежал себе. После завтрака Макфи посадил его в машину и высадил неподалеку от Беллбэри.
Марк дремал у ложа бродяги, когда явились посетители. Первым вошел Фрост и придержал дверь, впуская в комнату Уизера и еще одного, незнакомого человека.
Новоприбывший – в грубой рясе, с широкополой черной шляпой в руке – был очень высок, чисто выбрит, изрезан морщинами и голову держал немного склоненной. Марк сразу решил, что это – простой монах, знающий по случайности древние наречия, такие же темные, как и он сам. Было неприятно видеть его с этими негодяями, наблюдавшими не без холодной брезгливости за ходом эксперимента.
Уизер что‑то сказал незнакомцу по‑латыни, Марк не понял и подумал: «Ну, конечно, он священник. И где они его откопали? Может, грек? Непохоже… Скорей уж русский». Однако, больше он не гадал, ибо его приятель, открывший было глаза, крепко зажмурился и стал странно себя вести. Сперва он захрюкал и повернулся к прочим спиной. Незнакомец шагнул к кровати и произнес два‑три слова. Бродяга – медленно, словно тяжелый корабль, послушный рулю – перекатил на другой бок и уставился на пришельца. Тот заговорил снова; лицо у бродяги исказилось, и он – заикаясь, кашляя, тяжело дыша – выговорил высоким голосом какую‑то непонятную фразу.
Так беседа и пошла. Бродяга стал говорить глаже, но голос у него был совсем не тот, который часто слышал Марк. Вдруг он присел в постели, указывая пальцем на Уизера и Фроста. Пришелец что‑то спросил. Бродяга ответил.
Тогда пришелец отступил назад, несколько раз перекрестился и быстро заговорил по‑латыни, обращаясь к начальникам. Лица их менялись, пока он говорил – они все больше походили на собак, идущих по следу. Пришелец кинулся к дверям, подобрав рясу, но они его перехватили.
Фрост оскалился, совершенно как пес, Уизер уже не смотрел вдаль. Пришелец осторожно двинулся к кровати. Бродяга застыл, подобострастно глядя на него.
Снова началась беседа. Бродяга опять указал на Уизера и Фроста, пришелец перевел его слова на латынь. Уизер и Фрост переглянулись. Дальше пошел чистый бред. Очень осторожно, трясясь и кряхтя, ИО стал опускаться на колени, через полсекунды опустился и Фрост с каким‑то металлическим лязганьем. Он посмотрел снизу вверх на Марка, и лицо его скривилось от злости, такой сильной, что она уже не была страстью и обжигала холодом, словно металл на морозе. «На колени!» – прорычал он и отвернулся. Марк так и не вспомнил потом, забыл ли он послушаться, или с этого и начался его бунт. Бродяга опять заговорил, не отрывая глаз от пришельца. Тот перевел и отступил в сторону. Уизер и Фрост поползли к кровати. Бродяга сунул им грязную мохнатую руку. Они ее поцеловали. Он приказал что‑то еще. Уизер стал возражать (все по‑латыни), указывая на Фроста. Слова, поспешно исправлявшиеся на «с вашего разрешения», звучали так часто, что и Марк их понял. Но бродяга был непреклонен; Уизер и Фрост покинули комнату.
Как только закрылась дверь, бродяга рухнул, словно из него выпустили воздух. Он катался по кровати, бранился, но Марк не слушал его, ибо пришелец теперь обернулся к нему самому. Чтобы лучше его понять, Марк поднял голову, но она сразу упала, и сам того не заметив, он крепко заснул…
– …Ну, как?.. – спросил Фрост.
– По… поразительно, – еле выговорил Уизер.
Они шли по переходам и говорили очень тихо.
– Куда мы идем? – осведомился Фрост.
– В мои комнаты, – ответил Уизер. – Если вы помните, он попросил, чтобы ему дали одежду.
– Он не просил. Он приказал.
ИО не ответил. Они вошли в его спальню и закрыли дверь.
– Я полагаю, это ему подойдет, – сказал Уизер, выкладывая одежду на постель. – Мне кажется, баскский… э‑э… священнослужитель вам не совсем приятен. Я не разделяю вашей неприязни к религии. Я говорю не о христианстве в его примитивной форме, но в религиозных кругах… я сказал бы, в клерикальных сферах… время от времени попадаются чрезвычайно ценные виды духовности. Как правило, носители их в высшей степени деятельны. Отец Дойл, хотя он и не очень даровит – один из лучших наших сотрудников, а Страйк способен к полной самоотдаче (вы, если не ошибаюсь, называете ее объективностью?). Это – редкость, немалая редкость.
– Что вы предлагаете?
– Прежде всего, нужно посоветоваться с Головой. Как вы понимаете, слово это я употребляю условно, лишь для краткости.
– Не успеем. Скоро банкет. Через час приедет Джайлс. Мы с ним прокрутимся до ночи.
Уизер об этом забыл; но испугало его именно то, что ему отказала память, словно на него впервые дохнула зима.
– Господи, помилуй! – воскликнул он.
– Нечего и говорить, их обоих придется туда взять, – сказал Фрост. – Их оставили одних… и с этим, вашим, Стэддоком. Надо скорей вернуться.
– А что с ними дальше делать?
– Обстоятельства подскажут…
Словом, бродягу выкупали и одели, а когда это кончилось, пришелец в рясе сообщил, что он требует, чтобы ему показали весь дом.
– Мы будем чрезвычайно рады… – начал Уизер. Бродяга перебил его. Пришелец сказал:
– Он требует, чтобы вы показали ему Голову, зверей и узников. Кроме того, он пойдет только с одним из вас. С вами. – И он указал на Уизера.
– Я не допущу… – вмешался Фрост, но Уизер не дал ему кончить.
– Дорогой мой Фрост, – сказал он, – вряд ли сейчас время… э‑э‑э… К тому же, один из нас должен встретить Джайлса.
Пришелец сказал:
– Простите меня, это не мои слова, я обязан перевести. Он запрещает говорить при нем на незнакомом языке. Он привык, это его слова, чтобы ему повиновались. Он спрашивает, хотите ли вы, чтобы он был вашим другом или врагом.
Фрост двинулся к кровати, но говорить не смог. В голову ему приходили какие‑то нелепые обрывки слов. Он знал, что общение с макробами может повлиять на психику, даже совсем ее разрушить, однако приучил себя об этом не думать. Быть может, это началось. Фрост напомнил себе, что страх – продукт химических реакций. Кроме того, в самом худшем случае, это лишь предвестник конца. Перед ним еще масса работы. Он переживет Уизера. Страйка он убьет. Он отошел в сторону, и Мерлин, бродяга и Уизер вышли из комнаты.
Фрост не ошибся – он сразу же обрел дар речи, и без труда сказал, тряся Марка за плечо:
– Нашли место спать! Идем.
В одеждах доктора философии бродяга ходил по дому осторожно, словно по яйцам. Время от времени лицо его искажалось, но ему не удавалось произнести ни слова, если Мерлин не оборачивался к нему и его не спрашивал. Он ничего не понимал, но далеко не впервые с ним творились непонятные вещи.
Тем временем, войдя в длинную комнату, Марк увидал, что стол отодвинут к стене. На полу лежало огромное распятие, почти в натуральную величину, выполненное в испанском духе – с предельным, жутким реализмом.
– У нас есть полчаса, – сказал Фрост, глядя на секундомер, и велел Марку топтать и как угодно оскорблять распятие.
Джейн отошла от христианства в детстве – тогда же, когда перестала верить в Санта Клауса, а Марк не знал его вообще. Поэтому сейчас ему впервые пришло в голову: «А вдруг в этом что‑нибудь есть?» Фрост знал, что первая реакция может быть такой; он очень хорошо это знал, ибо и ему в голову поначалу пришла эта мысль. Но выбора не было. Это непременно входило в посвящение.
– Нет, вы посудите сами… – начал Марк.
– Что, что? – переспросил Фрост. – Быстрее, у нас мало времени.
– Это же просто суеверие, – сказал Марк, указывая на страшно белое тело.
– И что же?
– Какая же тут объективность? Скорее субъективность его оскорблять. Ведь это просто кусок дерева…
– Вы судите поверхностно. Если бы вы не выросли в христианском обществе, вас бы это упражнение не касалось. Конечно, это суеверие, но именно оно давит на нашу цивилизацию много столетий. Можно эксперимент??льно доказать, что оно существует в подсознании у лиц, которые сознательно его отвергают. Тем самым, упражнение целесообразно, и обсуждать тут нечего. Практика показывает, что без него обойтись нельзя.
Марк сам удивлялся тому, что чувствует. Без всякого сомнения, перед ним лежало не то, что так поддерживало его в эти дни. Невыносимое по реализму изображение было, на свой лад, так же далеко от «нормального», как и все остальное в комнате. Но Марк не мог выполнить приказ – ему казалось, что гнусно оскорблять такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело было не только в том. Все здесь как‑то изменилось. Оказывается, дихотомия «нормальное» – «ненормальное» или «здоровое» – «больное» работает не всегда. Почему тут распятие? Почему самые гнусные картины – на евангельскую тему? «Куда бы я ни ступил, – думал Марк, – я могу свалиться в пропасть». Ему хотелось врасти копытами в землю, как врастает осел.
– Прошу вас, быстрее, – торопил его Фрост.
Спокойный голос, которому он так часто подчинялся, чуть не сломил его. Он шагнул было вперед, чтобы скорее отделаться от этой ерунды, когда беззащитность распятого остановила его. Никакой логики не было. Эти руки и ноги казались особенно беззащитными потому, что они сделаны из дерева, и уж никак, ничем не могут ответить. Безответное лицо куклы, которую он отобрал у Миртл и разорвал на куски, вспомнилось ему.
– Чего вы ждете, Стэддок? – холодно спросил Фрост.
Марк понимал, как велика опасность. Если он не послушается, отсюда ему не уйти. Страх снова подступил к нему. Он сам был беззащитным, как этот Христос. Когда он это подумал, распятие предстало перед ним в новом свете – не куском дерева и не произведением искусства, но историческим свидетельством. Конечно, христианство – чушь, но этот человек жил на свете и пострадал от Беллбэри тех дней. И тогда Марк понял, почему, хотя он и нездоров, и ненормален, он тоже противостоит здешней извращенности. Вот что бывает, когда правда встречает неправду; вот что делает неправда с правдой и сделает с ним, если он правде не изменит. Это – перекресток. Крест.
– Вы собираетесь заниматься? – осведомился профессор, глядя на стрелки. Он знал, что Джайлс вот‑вот прибудет, и в любую минуту его могут вызвать. Заниматься сейчас он решил и по наитию (с ним это случалось все чаще), и потому, что спешил заручиться сообщником. В ГНИИЛИ было только трое посвященных – он, Уизер и, быть может, Страйк.
Именно им придется иметь дело с Мерлином. Тот, кто поведет себя правильно, может стать для остальных тем, чем все они были для института, а институт – для Англии. Он знал, что Уизер только и ждет от него какого‑нибудь промаха. Значит, надо поскорей перевести Марка через черту, за которой подчинение макробам и своему наставнику становится психологической, даже физиологической потребностью.
– Вы меня слышите? – спросил он.
Марк молчал. Он думал, и думал напряженно, ибо знал, что остановись он хоть на миг, страх сломит его. Да, христианство – выдумка. Смешно умирать за то, во что не веришь. Даже этот человек на этом самом кресте обнаружил, что все было ложью, и умер, крича о том, что Бог, которому он так верил, покинул его. Этот человек обнаружил, что все мироздание – обман. Но тут Марку явилась мысль, которая никогда ему не являлась: хорошо, мироздание – обман, но почему же надо вставать на его сторону? Предположим, правда совершенно беспомощна, над ней глумятся, терзают, убивают, наконец. Ну и что? Почему не погибнуть вместе с ней? Ему стало страшно от того, что самый страх исчез. Все эти страхи прикрывали его, они защищали его всю жизнь, чтоб он не совершил того безумия, которое совершает сейчас, когда говорит, обернувшись к Фросту:
– Да будь я проклят, если это сделаю!
Он не знал и не думал, что будет дальше. Он не знал, позвонит ли Фрост в звонок, или застрелит его, или прикажет снова. Фрост смотрел на него, а он – на Фроста. Потом он увидел, что Фрост прислушался. Потом открылась дверь, и в комнате оказалось сразу много народу – человек в красной мантии (бродягу он не узнал), и странный священник, и Уизер.
В большой гостиной воцарилось беспокойство. Хорес Джайлс, директор института, уже полчаса, как прибыл. Его повели в кабинет ИО, но ИО там не было. Его повели в его кабинет и надеялись, что он там застрянет, но он не застрял. Через пять минут он свалился им на голову и стоял т??перь спиной к огню, попивая херес, а главные люди института стояли перед ним.
Беседовать с ним было всегда нелегко, ибо он упорно считал себя настоящим директором, и даже верил, что основные идеи принадлежат ему. Поскольку он не знал другой науки, кроме той, которую ему преподавали в Лондонском университете лет пятьдесят назад, и другой философии, кроме той, которую он почерпнул из Геккеля, Джозефа Мак‑Кэба и Винвуда Рида, обсуждать с ним работу института не представлялось возможным. Приходилось измышлять ответы на бессмысленные вопросы и восхищаться мыслями, которые были и глупыми, и отсталыми даже в свое время. Вот почему никто не мог обойтись без Уизера, который, один из всех, владел стилем, совершенно удовлетворявшим директора.
Джайлс был очень мал ростом, а ноги у него были такие короткие, что его, без должного милосердия, сравнивали с уткой. Былое благодушие его лица попортили годы чванства и роскоши. Когда‑то его повести принесли ему славу и влияние; потом он стал издателем научно‑популярного еженедельника, и это придало ему такую силу, что его имя понадобилось ГНИИЛИ.
– Я ему и говорю, – сообщал собеседникам Джайлс. – Вы, наверное, не знаете, ваше преосвященство, но современные исследования доказали, что Иерусалимский храм был не больше деревенской церквушки.
– Н‑да!.. – сказал про себя Фиверстоун, стоявший чуть поодаль.
– Еще хересу, господин директор? – осведомилась мисс Хардкастл.
– С удовольствием, – отозвался Джайлс. – Недурной херес, недурной. Хотя я мог бы показать вам местечко, где он получше.
– Как ваша работа, мисс Хардкастл? Реформируете систему наказаний?
– Движемся понемногу, – отвечала Фея. – Если чуть‑чуть изменить метод, который…
– Я всегда говорю, – заметил Джайлс, не давая ей закончить, – почему бы не лечить преступность, как болезнь? Я, знаете ли, против наказаний. Надо выправить человека, помочь ему, возродить в нем интерес к жизни. Если мы взглянем с этой точки зрения, все прояснится. Надеюсь, вы читали мою речь по этому вопросу?..
– Я совершенно с вами согласна, – поспешила заверить его Фея.
– И правильно, – одобрил Джайлс. – А вот Хинджест возражал мне. Кстати, убийцу не нашли? Жаль старика, но я его недолюбливал. Как говорит Уизер… Да, а где же он?
– Наверное, сейчас придет, – попыталась успокоить его Фея. – Не пойму, куда он подевался…
– Он будет очень жалеть, – сказал Филострато, – что не смог приветствовать вас сразу.
– Ну, это ничего, – отмахнулся Джайлс. – Я не формалист, хотя, честно говоря, я думал, он меня встретит. А вы прекрасно выглядите, Филострато. Слежу, слежу за вашей работой. Я, знаете, считаю вас одним из благодетелей человечества.
– В том‑то и дело, – подхватил Филострато. – Мы как раз начали…
– Помогаю как могу, – тут же перебил его Джайлс, – хотя и не смыслю, хе‑хе, в технических трудностях. Много лет положил я на эту борьбу!.. Главное – сексуальный вопрос. Я всегда говорю, надо снять эти запреты, и все пойдет гладко. Викторианская скрытность нам вредит, да, вредит! Дай мне волю, и каждый юноша и каждая девушка…
– У‑ух! – тихо выдохнул Фиверстоун.
– Простите, – попытался перехватить инициативу Филострато (он был иностранцем и еще надеялся просветить директора), – дело не совсем в этом…
– Знаю, знаю, – перебил его Джайлс и положил на его рукав свой толстый указательный палец. – Вижу, вы не читаете моего журнала. Очень вам советую прочесть одну статейку в первом номере за прошлый месяц…
Часы отбили четверть.
– Когда же мы пойдем к столу? – осведомился Джайлс. Он очень любил банкеты, особенно такие, на которых ему доводилось говорить речь. Ждать он не любил.
– В четверть восьмого, – сказала мисс Хардкастл.
– Знаете, – заметил Джайлс, – этот Уизер мог бы и прийти. Я не придирчивый человек, но, между нами, я обижен. Что это такое, наконец?
– Надеюсь, с ним ничего не случилось, – проворчала мисс Хардкастл.
– Мог бы и не уходить в такой день, – обиженно проговорил Джайлс.
– Ессо! – воскликнул Филострато. – Кто‑то идет.
Действительно, в комнату вошел Уизер, но не один, и лицо его было еще бессвязней, чем обычно. Его таскали по собственному институт??, как лакея. Хуже того, становилось все яснее, что этот гнусный маг и его переводчик собираются присутствовать на банкете. Никто не понимал лучше Уизера, как нелепо представлять Джайлсу старого священника и нечто вроде сомнамбулы‑шимпанзе в одеждах доктора философии. О том, чтобы все объяснить, и речи быть не могло. Для Джайлса «средневековый» значило «дикий», а слово «магия» вызывало в его памяти лишь «Золотую ветвь». Кроме того, пришлось таскать за собой и Стэддока. К довершению бед, предполагаемый Мерлин сразу же рухнул в кресло и закрыл глаза.
– Дорогой доктор, – начал Уизер, несколько задыхаясь, – я бесконечно… э‑э… польщен. Я надеюсь, что вы без нас не скучали. К моему великому сожалению, меня отозвали перед самым вашим приездом. Удивительное совпадение… другой весьма выдающийся человек присоединился к нам в то же самое время…
– Кто это? – резко спросил Джайлс.
– Разрешите мне… – начал Уизер, отступая в сторону.
– Вот этот? – изумился Джайлс.
Предполагаемый Мерлин сидел, свесив руки по обе стороны кресла. Глаза его были закрыты, по лицу блуждала слабая улыбка.
– Он что, пьян? Или болен? Кто это, в конце концов?!
– Видите ли, он иностранец… – снова начал Уизер.
– Мне кажется, это не значит, что ему можно спать, когда его представляют директору! – возмутился Джайлс.
– Т‑сс, – приложил к губам палец Уизер, отводя Джайлса в сторону. – Есть обстоятельства… их чрезвычайно трудно сейчас объяснить… если бы я успел, я бы непременно посоветовался с вами… видите ли, наш гость несколько эксцентричен…
– Да кто он? – настаивал Джайлс.
– Его зовут… э… Амброзиус, д‑р Амброзиус…
– Не слышал, – фыркнул Джайлс. В другое время он ни за что бы в этом не признался, но все шло так плохо, что он забыл о тщеславии.
– Мало кто слышал о нем… – успокоил его Уизер. – Но скоро услышат многие. Именно потому…
– А это кто? – снова спросил Джайлс, указывая на истинного Мерлина.
– О, это просто переводчик д‑ра Амброзиуса!
– Переводчик? По‑английски говорит?
– К сожалению, нет.
– А другого вы найти не могли? Не люблю священников! Нам они ни к чему. А вы кто такой?
Вопрос этот был обращен к Страйку, который шел прямо на директора.
– М‑р Джайлс, – начал он, – я несу вам весть, которую…
– Отставить, – прошипел Фрост.
– Ну что ж это вы, м‑р Страйк, что ж это вы!.. – заговорил Уизер, и они с Фростом поскорее вывели его, подталкивая с обеих сторон.
– Вот что, Уизер, – заявил Джайлс, – прямо скажу, я недоволен. Еще один священник! Нам придется с вами серьезно потолковать. Мне кажется, вы распоряжаетесь за моей спиной. Тут, простите, какая‑то семинария! Этого я не потерплю! И народ не потерпит.
– Конечно, конечно, – тут же согласился Уизер. – Я понимаю ваши чувства. Более того, я разделяю их. Поверьте, я вам все объясню. Мне кажется, д‑р Амброзиус уже оправился… о, прошу прощения, да вот и он!..
Под взглядом Мерлина бродяга поднялся и подошел к директору, протягивая руку. Джайлс кисло пожал ее. Д‑р Амброзиус ему не нравился. Еще меньше ему нравился высокий переводчик, возвышающийся, словно башня, над ними обоими.
16. БАНКЕТ В БЕЛЛБЭРИ
Марк с неописуемым наслаждением предвкушал банкет, где можно будет поесть на славу. За столом справа от него сел Филострато, слева – какой‑то незаметный новичок.
Даже Филострато казался милым и похожим на человека по сравнению с посвященными, новичок же растрогал Марка донельзя. Бродяга, к его удивлению, сидел во главе стола, между Джайлсом и Уизером; смотреть туда не стоило, ибо он сразу же подмигнул Марку. Удивительный священнослужитель тихо стоял за стулом бродяги. Ничего существенного не случилось, пока не провозгласили тост за монарха, и Джайлс не начал свою речь.
Поначалу было так, как всегда бывает: пожилые жуиры, умиротворенные вкусной едой, благодушно улыбались, ибо их нельзя было пронять никакой речью. Там и сям маячили задумчивые лица тех, кого долгий опыт научил думать о своем, что бы ни говорили, и вставлять, где надо, гул одобрения или смех. Беспокойно морщились молодые мужчины, которым хотелось закурить. Напряженно и восторженно улыбались тренированные дамы. Но, мало‑помалу, что‑то стало меняться. Одно лицо за другим обращались к оратору. Поглядев на эти лица, вы обнаружили бы любопытство, сосредоточенное внимание и, наконец, недоумение. Постепенно воцарилась тишина, никто не кашлял, не скрипел стулом: все смотрели на Джайлса, приоткрыв рот, не то от ужаса, не то от восторга.
Каждый заметил перемену по‑своему. Для Фроста она началась, когда он услышал: «большую помощь оказал крупнейший крест», и почти вслух поправил: «трест». Неужели этот кретин не может следить за своими словами? Оговорка сильно рассердила его, но что это?.. Может, он ослышался? Джайлс говорит, что «человечество охладевает пилами природы»! «Уже готов», – подумал Фрост и услышал совершенно отчетливо: «Надо всесторонне отчитывать факторы племени и теста».
Уизер заметил это позже. Он не ждал смысла от застольной речи, и довольно долго фразы привычно скользили мимо него. Речь ему даже понравилась, она была в его стиле. Однако, и он подумал: «Нет, все же! Это уж слишком… Зачем он говорит, что в ответ на поиски прошлого мы умеренно стоим будущее? Даже они поймут, что это бред». ИО с осторожностью оглядел столы. Пока все шло хорошо. Но долго это продолжаться не могло, если Джайлс не закруглится. Слова какие‑то непонятные… Ну, что такое «аголибировать»? Он снова оглядел столы: гости слушали слишком внимательно, а это не к добру. Тут он услышал: «Экспонаты экземплатируют в управлении поруозных мариаций».
Марк сначала вообще не слушал. Ему было о чем подумать. Он слишком устал, чтобы думать об этом болване, и слишком радовался передышке. Фраза‑другая задели его слух, и он чуть не улыбнулся, но пробудило его лишь поведение сидящих рядом с ним. Они притихли; они слушали; и он взглянул на их лица. Лица были такие, что и он стал слушать. «Мы не намерены, – вещал Джайлс, – эребировать простун‑диарные атации». Как ни мало беспокоился он о Джайлсе, ему стало страшно за него. Марк огляделся. Нет, с ума он не сошел, все явно слышали то же самое, кроме бродяги: тот был важен, как судья. И впрямь, бродяга речей не слыхивал и разочаровался бы, если бы «эти самые» говорили понятно. Не пил он и настоящего портвейна; правда, тот ему не очень понравился, но он себя преодолел.
Уизер не забывал ни на минуту, что в зале – репортеры. Само по себе это было не очень важно. Появись что‑нибудь в газетах, легче легкого сказать, что репортеры напились. С другой стороны, можно этого и не делать: Джайлс давно ему надоел, и вот отличный случай с ним покончить. Но сейчас дело было не в том. Уизер думал, ждать ли ему, пока Джайлс замолчит, или встать и вмешаться. Сцены он не хотел. Было бы лучше, если бы Джайлс опустился на место сам. Однако, дух уже стоял нехороший, и откладывать было опасно. Украдкой поглядев на часы, Уизер решил подождать две минуты и сразу понял, что ошибся. Пронзительно‑тонкий смех взмыл к потолку. Так. С какой‑то дурой истерика. Уизер тронул Джайлса за рукав и поднялся.
– Кто какое? – возмутился Джайлс, но ИО тихо надавил на его плечо, и ему пришлось сесть. Уизер откашлялся. Он умел сразу приковывать к себе взгляды. Женщина перестала визжать. Люди с облегчением зашевелились. Уизер оглядел комнату, помолчал и начал.
Он ждал, что обращенные к нему лица будут все умиротворенней, но видел иное. Вернулось напряженное внимание. Гости, приоткрыв рот, не мигая глядели на него. Снова раздался визг, а за ним и еще один. Коссер, дико озираясь, вскочил и выбежал, свалив при этом стул.
Уизер ничего не понимал, ибо слышал свою вполне связную речь. Аудитория же слышала: «Дэди и лентльмены, все мы обнимаем… э‑э… что нашего унижаемого рукоблудителя отразила… э‑э… аспазия… троизошло трисворбное троисшествие. Как это ни граматично, я умерен, что…»
Визжащая от хохота женщина вскочила, бросив соседу: «Вудвулу!» Это дикое слово и не менее дикое ее лицо привели соседа в бешенство. Он встал, чтобы ей помочь, с той злобной вежливостью, которая в наше время заменяет оплеуху. Она закричала, споткнулась и упала на ковер. Другой ее сосед увидел это, взглянул на лицо первого и кинулся на него. Вскочило человек пять; все орали. Какие‑то молодые люди стали пробираться к двери. «Хилые кости!..» – воззвал Уизер. Он часто одним властным окриком усмирял аудиторию.
Но его не услышали. Человек двадцать пытались заговорить одновременно. Каждый из них понимал, что самое время образумить всех удачно найденным словом, и многоголосый бред наполнил комнату. Из людей, имеющих вес, молчал только Фрост. Он что‑то написал на бумажке, свернул ее и отдал слуге.
Когда записка попала к мисс Хардкастл, шум стоял страшный. Марку это напоминало большой ресторан в чужой стране. Мисс Хардкастл стала читать: «Ловите позицию! Прочно! Прост.»
Фея знала и до того, что сильно пьяна. Пила же она не без цели – позже ей надо было спуститься к себе, вниз. Там была новая жертва, как раз в ее духе – такая безответная куколка. В предвкушении удовольствия Фея речей не слушала, а шум ее даже возбуждал. Из записки она поняла, что Фрост от нее чего‑то хочет. Она встала, пошла к двери, заперла ее и положила ключ в карман. Возвращаясь к столу, она заметила, что ни странного незнакомца, ни священника‑баска уже нет. Во главе стола боролись Джайлс и Уизер. Она направилась к ним.
Добралась она не скоро, ибо комната больше всего напоминала метро в часы пик. Каждый пытался навести порядок и, чтобы его поняли, орал все громче и громче. Фея заорала и сама. Она и дралась немало, пока дошла до места.
Тогда раздался оглушительный треск, а затем, наконец, воцарилась тишина. Марк увидел сперва, что Джайлс убит, и только потом, что в руке у Феи револьвер. Снова поднялся гвалт. По‑видимому, все хотели прорваться к убийце, но только мешали друг другу. Она, тем временем, стреляла без остановки. Позже, всю жизнь, Марк лучше всего помнил этот запах – запах выстрелов, крови и вина.
Вдруг крики слились в единый вопль. Что‑то мелькнуло между двумя длинными столами и исчезло под одним из них. Почти никто не видел ничего, кроме быстрой, огненно‑черной полоски; но и те, кто видел, не могли объяснить, ибо кричали невесть что. Марк понял и сам. Это был тигр.
Впервые за этот вечер все заметили, сколько в комнате закоулков и закутков. Тигр мог быть где угодно. Он мог быть в глубокой нише любого окна. В углу стояла большая ширма…
Не следует думать, что все потеряли голову. Кто‑то к кому‑то взывал, кто‑то шептал ближайшему соседу, пытаясь показать, как выйти из комнаты или спрятаться самим, или выгнать зверя из засады, чтобы его застрелили. Но никто никого не понимал. Мало кто видел, что Фея заперла дверь, и многие стремились к выходу, безжалостно прокладывая себе путь. Некоторые знали, что эта дверь заперта, и яростно искали другую. В середине залы обе волны встречались, что‑то орали и начинали драться, увеличивая плотный клубок мычащих и пыхтящих тел.
Человек пять отлетело в сторону и, падая на пол, увлекло за собой скатерть со всей едой и посудой. Из груды битого стекла и фарфора выскочил тигр, так быстро, что Марк увидал только разинутую пасть и огненные глаза. Раздался выстрел – последний. Тигр снова исчез из виду. На полу, под ногами дерущихся, лежала какая‑то окровавленная туша.
Оттуда, где он стоял, Марк увидел перевернутое лицо. Оно дергалось довольно долго, и лишь когда оно затихло, он узнал мисс Хардкастл.
Вблизи послышался рев, Марк обернулся, но увидел не тигра, а серую овчарку. Вела она себя странно – бежала вдоль стола, поджав хвост. Какая‑то женщина обернулась, открыла рот, но овчарка кинулась на нее и мигом перегрызла ей горло. «Ай‑ай», – заверещал Филострато и прыгнул на стол. На полу мелькнула огромная змея.
Творилось что‑то невообразимое. Что ни миг, появлялось новое животное, и лишь один звук вселял хоть какую‑то надежду: дверь взламывали снаружи. В дверь эту въехал бы маленький поезд, ибо зала была в версальском стиле. Наконец, несколько филенок поддались. От треска их стремившиеся к выходу вконец обезумели. Обезумели и звери. Огромная горилла прыгнула на стол, перед тем самым местом, где недавно сидел Джайлс, и принялась бить себя в грудь.
Дверь рухнула. За ней было темно. Из мрака выполз серый шланг. Он повис в воздухе, потом спокойно сбил остатки дверных створок. Марк увидел, как он обвился вокруг Стила (а может, кого другого, все стали на себя непохожи) и поднял его высоко в воздух.
Так слон постоял немного – человек отчаянно извивался – бросил жертву на пол и раздавил ногой. Затем он вскинул голову, вознес кверху хобот, издал немыслимый рев и величаво пошел по зале, давя людей, еду, как деревенская девушка давит виноград. Глазки его глядели загадочно, уши стояли, и Марк ощутил что‑то большее, чем страх. Спокойная царственность слона, беспечность, с какой он убивал, сокрушали душу, как сокрушали кости и плоть тяжелые ноги. Вот он, царь мирозданья, – подумал Марк, и больше не думал ничего.
Когда м‑р Бультитьюд пришел в себя, было темно и пахло чем‑то незнакомым.
Он не удивился и не огорчился. К тайнам он привык. Заглянуть там, дома, в дальнюю комнату было для него так же интересно и страшновато. К тому же, пахло тут неплохо. Он унюхал поблизости еду и, что еще приятней, медведицу. Были здесь и другие звери, но это его не трогало. Он решил пойти к еде и к медведице; и только тогда он открыл, что с трех сторон – стены, с четвертой – решетка. Открытие это и смутная тоска по людям ввергли его в уныние. Его охватила печаль, ведомая лишь зверю – безутешная, непроглядная, которую не умеряют и проблески разума.
Однако совсем неподалеку примерно так же томился и человек. Мистер Мэггс горевал, как горюют лишь простые люди. Человек образованный облегчил бы душу размышлениями. Он стал бы думать, как же это такая гуманная с виду идея – лечить, а не наказывать – лишает тебя на самом деле и прав, и даже мало‑мальски точного срока. Но м‑р Мэггс думал об одном: сегодня, в это самое время, он мог бы пить дома чай (уж Айви да приготовила что‑нибудь вкусное!), а вот как обернулось… Сидел он тихо. Раз в две минуты по его щеке сползала большая слеза. Ему хотелось курить.
Обоих освободил Мерлин. Зал он покинул, как только заработало проклятье Вавилонской башни. Никто не заметил его ухода, лишь Уизер услышал ликующий возглас:
«Кто слово Божье презрит, утратит и слово человеческое!»
Больше никто не видел ни «переводчика», ни бродяги. Мерлин отправился к узникам и зверям. М‑ру Мэггсу он сунул записку: «Дорогой Том! Я надеюсь, что ты здоров. Хозяин у нас очень хороший. Он говорит, чтобы ты шел сразу сюда, в усадьбу, в деревню Сент‑Энн. Через город не ходи ни за что. Выйди на шоссе, тебя подвезут. У нас все хорошо. Целую тебя. Твоя Айви.» Прочих пленников он пустил идти, куда хотят. Бродяга забежал на кухню, набил как следует карманы и ушел на волю. Путь его мне установить не удалось.
Всех зверей, кроме осла, исчезнувшего вместе с бродягой, Мерлин послал в залу. М‑ра Бультитьюда он немного задержал. Тот узнал его, хоть от него и пахло не так сладостно. Мерлин положил руку ему на голову, прошептал что‑то на ухо, и темное сознание преисполнилось восторга, словно предвкушая запретную и забытую радость. Медведь потопал за волшебником по темным переходам, думая о солоноватом тепле, приятном хрусте и увлекательных субстанциях, которые можно лакать, лизать и грызть.
Марк почувствовал, что его трясут; потом в лицо плеснула холодная вода. Живых людей в зале не было. Свет заливал мешанину крови и еды. Обломки драгоценной посуды лежали рядом с трупами; и те, и другие казались от этого еще гнуснее. Над ним склонился баскский священник.
«Встань, несчастный», – сказал он, помогая Марку подняться. Голова болела, из руки текла кровь, но вообще он был цел. Баск налил ему вина в серебряный кубок, но он в ужасе отшатнулся. Тогда незнакомец дал ему записку: «Твоя жена ждет тебя в усадьбе, в Сент‑Энн. Приезжай скорей. К Эджстоу не приближайся. Деннистоун.» Он взглянул на незнакомца, и лицо его показалось ему ужасным. Но Мерлин серьезно и властно встретил его взгляд, положил ему руку на плечо и повел к двери. Они спустились по лестнице. Марк взял шляпу и пальто (чужие), и они вышли под звездное, холодное небо. Было два часа ночи. Сириус отливал горьковато‑зеленым светом, падали редкие, сухие хлопья снега. Марк остановился. Незнакомец ударил его по спине; она ныла потом всю жизнь при одном воспоминании. В следующую минуту Марк понял, что бежит, как не бегал с детства – не от страха, а потому, что ноги сами его несут. Когда он сумел их остановить, он был в полумиле от Беллбэри. Оглянувшись, он увидел в небе яркий свет.
Уизер в зале не погиб. Он знал, где другая дверь, и выскользнул еще до тигра. Понимал он не все, но больше, чем прочие. Он видел, как действует баск‑переводчик, и догадался, что силы, высшие, чем человек, пришли разрушить Беллбэри. Он знал, что смешивать языки может лишь тот, чьей душой правит Меркурий. Тем самым, свершилось наихудшее: их собственные повелители ошиблись. Они утверждали, что небесные силы не могут перейти лунную орбиту. Вся политика их на том и строилась, что Земля огорожена и оставлена на произвол судьбы. Теперь он знал, что это не так.
Открытие это почти не тронуло его. Для него давно потеряло смысл слово «знать». От юношеской неприязни к грубому и низменному он постепенно дошел до полного безразличия ко всему, кроме себя. От Гегеля он перешел к Юму, потом – к прагматизму, потом – через логический позитивизм – к полной пустоте. Он хотел, чтобы не было ни реальности, ни истины; и даже неизбежность конца не пробудила его. Последняя сцена «Фауста» – дань театральности. Минуты, предшествующие вечной гибели, не так драматичны. Нередко человек знает, что какое‑то движение воли еще спасло бы его, но он не может сделать так, чтобы знание это стало для него реальным. Мелкая привычка к похоти, ничтожнейшая досада, потворство роковому бесчувствию важнее в этот миг, чем выбор между полным блаженством и полным разложением. Он видит, что нескончаемый ужас вот‑вот начнется, но не может испугаться и, не двигая пальцем в свою защиту, глядит, как рвутся последние связи с разумом и радостью. Душа, избравшая неверный путь, к концу его окутана сном.
Живы были и Страйк, и Филострато.
Они столкнулись в одном из холодных проходов, где уже не был слышен шум побоища. Филострато сильно поранил правую руку. Разговаривать они не стали – оба знали, что ничего не выйдет, но дальше пошли рядом. Филострато думал выйти к гаражу и довести машину хотя бы до ближайшей деревни.
Свернув за угол, они увидели то, чего не думали больше увидеть: исполняющий обязанности директора медленно шел к ним, что‑то мыча. Филострато не хотел с ним идти, но он, как бы сочувствуя раненому, предложил ему руку. Филострато открыл рот, чтобы отказаться, но ему удалось выговорить лишь бессмысленные слоги. Уизер крепко взял его за левый локоть, Страйк – за правый, пораненный. Дрожа от боли, Филострато пошел с ними. Но худшее было впереди. Он ничего не знал о темных эльдилах, он верил, что Алькасан живет благодаря ему. Поэтому, несмотря на боль, он закричал от ужаса, когда его втащили к голове без всяких приготовлений.
Тщетно пытался он объяснить, что так можно погубить всю его работу. Однако, в самой комнате они стали раздеваться и разделись донага.
Раздели и его. Правый рукав присох, но Уизер взял ланцет и разрезал его. Вскоре все трое стояли перед Алькасаном – костлявый Страйк, Филострато – дрожащая гора сала и непотребно дряхлый Уизер. Филострато охватил непередаваемый ужас: случилось то, чего случиться не могло. Никто ничего не делал ни с трубками, ни с кнопками, но голова произнесла: «Поклонитесь мне!»
Он чувствовал, как его тащат по полу, кидают лицом вниз, поднимают, кидают. Все трое кланялись, как заведенные. Почти последним, что он видел на земле, были пустые складки кожи, трясущиеся на шее Уизера, словно у индюка. Почти последним, что он слышал, был старческий голос, затянувший песню. Страйк стал вторить. К своему ужасу, он понял, что поет и сам:
Уроборинда!
Уроборинда!
Уроборинда!
Уроборинда, би‑би‑ба!
Вдруг голова сказала: «Дайте мне еще одну голову». Филострато сразу понял, зачем его волокут к стене. Там было окошко, заслон которого мог падать быстро и тяжело. Собственно, это и был нож, но маленькая гильотина предназначалась для других целей. Они убьют его без пользы, против научных правил. Вот он бы их убил совсем иначе – все бы приготовил задолго, за недели, стерилизовал бы этот нож, довел бы воздух до нужной температуры. Он прикинул даже, как повлияет на кровяное давление страх, чтобы подогнать давление в трубках. Последней в его жизни была мысль о том, что страх он недооценивал…
Двое посвященных, тяжело дыша, посмотрели друг на друга. Толстые ноги итальянца еще дергались, когда они вновь приступили к ритуалу:
Уроборинда!
Уроборинда!
Уроборинда, би‑би‑ба!
Оба подумали одно и то же: «Сейчас потребует другую». Страйк вспомнил, что Уизер держит ланцет. Уизер понял, что он хочет сделать, и кинулся на него. Страйк добежал до двери и поскользнулся в луже крови. Уизер несколько раз ударил его ланцетом. Он постоял – заболело сердце; потом он увидел в соседней комнате голову Филострато. Ему показалось, что хорошо бы ее предъявить той первой голове. Он ее поднял. Вдруг он заметил, что в этой комнате кто‑то есть. Дверь они закрыли, как же так? А может, нет? Они шли, вели Филострато… кто их знает… Осторожно, даже бережно он положил свою ношу на пол и сделал шаг к разделяющей комнаты двери. Огромный медведь стоял на пороге. Пасть его была открыта, глаза горели, передние лапы он распростер, словно открыл объятия. Значит, вот этим стал Страйк? Уизер знал, что он – на самой границе мира, где может случиться все. Но и тепе??ь это его не очень трогало.
Никто не был в эти часы спокойнее, чем Фиверстоун. О макробах он знал, но такие вещи его не занимали. Знал он и то, что план их может не сработать, но был уверен, что сам спасется вовремя. Ума своего он ничем не тревожил, и голова у него была ясная. Не мучила его и совесть: он никого не погубил, кроме тех, кто вставал на его пути, никого не надувал, кроме тех, кем мог воспользоваться, и испытывал неприязнь лишь к тем, кто его раздражал. Еще давно, почти в начале, он понял, что здесь, в ГНИИЛИ, что‑то идет не так. Теперь оставалось гадать, все тут рухнуло, или нет. Если все, надо вернуться в Эджстоу, где он всегда защищал от них университет. Если не все, надо стать человеком, который в последний момент спас Беллбэри. А пока надо подождать. Ждал он долго. Вылез он в окошко, через которое подавали горячие блюда, и наблюдал из него за побоищем.
Нервы у него были в полном порядке, а если какой‑нибудь зверь подошел бы поближе, он успел бы опустить заслонку. Так он и стоял, быть может – улыбался, курил одну сигарету за другой и барабанил пальцами по раме. Когда все кончилось, он сказал: «Да, черт меня возьми!..» Действительно, зрелище было редкое.
Звери разбрелись, и можно было наткнуться на них в коридоре, но приходилось рисковать. Умеренная опасность подбадривала его. Он прошел через дом, в гараж. По‑видимому, надо было немедленно ехать в Эджстоу. Машину он найти не мог: должно быть, ее украли. Он не рассердился, а взял чужую. Заводил он ее довольно долго. Ночь стояла холодная, и он подумал, что скоро пойдет снег. Впервые за эти часы он поморщился – снега он не любил. Тронулся в путь он около двух.
Ему показалось, что сзади кто‑то есть. «Кто там?» – резко спросил он и решил посмотреть. Но, к большому его удивлению, тело не послушалось. Снег уже падал. Фиверстоун не мог ни обернуться, ни остановиться. Ехал он быстро, хотя снег и мешал ему. Он слышал, что иногда машиной управляют с заднего сиденья; сейчас, должно быть, так и было. Вдруг он обнаружил, что едет не по шоссе. Машина на полной скорости мчалась по рытвинам так называемой Цыганской дороги (официально – Вейланд‑роуд), соединявшей некогда Беллбэри с Эджстоу, но давно поросшей травой. «Что за черт? – подумал он. – Неужели я напился? Так и шею свернешь». Но машина неслась, словно тому, кто ее вел, дорога очень нравилась.
Фрост покинул зал почти сразу после Уизера. Он не знал, куда идет и что будет делать. Много лет он думал, что все, представляющееся уму причиной, лишь побочный продукт телесного действия. Уже год с небольшим, с начала посвящения, он стал не только думать это, но и чувствовать. Он все чаще действовал без причины – что‑то делал, что‑то говорил, не зная почему. Сознание его лишь наблюдало, но он не понимал, зачем это нужно, и даже злился, хотя убеждал себя, что злоба – лишь продукт химических реакций. Из всех человеческих страстей в нем оставалась лишь холодная ярость против тех, кто верит в разум. Он терпеть не мог заблуждений. Не мог он терпеть и людей. Но до этого вечера он еще не испытывал с такой живостью, что реально только его тело, а некое «я», как бы наблюдавшее за его действиями, просто не существует. До чего же мерзко, что тело порождает такие призраки!
Так Фрост, чье существование он сам отвергал, увидел, что тело его вошло в первую комнату, откуда тянулись трубки, и резко остановилось, заметив обнаженный и окровавленный труп. Произошла химическая реакция, называемая ужасом. Фрост остановился, перевернул труп и узнал Страйка. Потом он заглянул в ту, главную комнату. Филострато и Уизера он едва увидел, его поразило иное: головы на месте не было, ошейник был погнут, трубки болтались. Он увидел голову на полу, но то была голова Филострато. От головы Алькасана не осталось и следа.
Все так же, не думая, что он будет делать, Фрост пошел в гараж. Было пусто и тихо, снег покрыл землю. Фрост вытащил столько бочек с бензином, сколько смог. В комнате, где они занимались с Марком, он сложил все, что только могло гореть. Потом он запер двери изнутри и сунул ключ в переговорную трубку, выходившую в коридор. Он толкал его, пока мог, потом вынул из кармана карандаш и затолкал еще дальше. Когда он услышал, как ключ звякнул об пол, надоедливый призрак – разум – сжался от ужаса. Но тело не послушалось бы, даже если бы он и хотел. Оно облило бензином груду вещей и поднесло к ней спичку. Только тогда те, кто им управлял, позволили ему понять, что и смерть не покончит с иллюзией души – хуже того, именно она закрепит эту иллюзию навечно. Тело исчезло, а душа оставалась. Фрост знал теперь (и не хотел знать), что ошибался всегда, что личная ответственность существует. Но ненависть его была сильнее знания. Она была сильнее даже физической боли. Таким и застала его вечность, как рассвет в старых сказках застает и превращает в камень продавших свою душу.
17. ВЕНЕРА В СЕНТ‑ЭНН
Когда Марк выбрался на шоссе, уже занялся день, но солнца видно не было. Колеса еще не оставили следов, лишь отпечатки птичьих и кроличьих лапок чернели на верхнем, пушистом слое снега. Большой грузовик, темный и теплый на фоне белых полей, притормозил, и шофер осведомился: «Куда, в Бирмингем?» «Мне ближе, – ответил Марк. – В Сент‑Энн». «А где это?» – поинтересовался шофер. «На холме, за Кеннингтоном». «Ладно, подвезу; только сворачивать не буду».
Попозже, совсем уже утром, он высадил Марка у придорожной гостиницы. Снег обложил и землю, и небо, стояла тишина… Марк вошел в дом и увидел добродушную пожилую хозяйку. Он принял ванну, позавтракал и заснул у огня. Проснулся он в четыре, узнал, что деревня – почти рядом, и решил выпить чаю. Хозяйка предложила сварить ему яйцо. Полки в маленькой зале были уставлены толстыми подшивками «Стрэнда». В одной из них он нашел повесть, которую ровно в десять лет бросил читать, устыдившись, что она детская. Теперь он ее прочитал. Она ему понравилась. Взрослые книги, на которые он ее променял, все оказались чушью, кроме «Шерлока Холмса». «Надо идти», – подумал он.
Однако, он не шел – не потому, что устал (он давно не был таким бодрым), а потому, что смущался. Там Джейн; там Деннистоун; там, наверное, Димблы. Он увидит Джейн в ее мире. Но это – не его мир. Стремясь всю жизнь в избранный круг, он и не знал, что круг этот – рядом. Джейн – с теми, с кем и должна быть. Его же примут из милости, потому что она совершила глупость, вышла за него замуж. Он не сердился на них, только стыдился, ибо видел себя таким, каким они должны его видеть – мелким, пошлым, как Стил или Коссер, нудным, запуганным, расчетливым; и думал, почему же он такой. Почему другим – Димблу, Деннистоуну – не надо сжиматься и оглядываться, почему они просто радуются и смешному, и прекрасному, без этой вечной оглядки? В чем тайна их смеха? Они даже в кресле сидят легко и величаво, с какой‑то львиной беззаботностью. Жизнь их просторна. Они – короли, он – валет. Но ведь Джейн – королева! Надо избавить ее от себя. Когда он впервые увидел ее из своего засушливого мира, она была как весенний дождь, и он ошибся. Он решил, что получит во владение эту красоту. С таким же правом можно сказать, что покупая поле, с которого ты видел закат, ты купишь и вечернее солнце.
Он позвонил в колокольчик и попросил счет.
В это время Матушка Димбл, Айви, Джейн и Камилла были наверху, в большой комнате, которую называли гардеробной. Если бы вы заглянули туда, вам показалось бы, что вы – в лесу – в тропическом лесу, сверкающем яркими красками. Взглянув повнимательнее, вы бы решили, что это – один из тех дивных магазинов, где ковры стоят стоймя, а с потолка свисают разноцветные ткани. На самом деле здесь просто хранились праздничные одеяния; и каждое висело отдельно, на особой вешалке.
– Смотрите, Айви, это для вас, – говорила Матушка Димбл, приподнимая зеленую мантию. Цвет ее был и светел, и ярок, а по всему полю плясали золотые завитушки. – Неужели не нравится? Или все волнуетесь? Он же сказал, что Том будет здесь сегодня ночью, самое позднее – завтра.
Айви беспокойно взглянула на нее.
– Я знаю, – кивнула она. – А где тогда будет он сам?
– Не может он остаться, Айви, – объяснила Камилла. – У него все время болит нога. И потом он… скучает. Да, он тоскует по дому. Я все время это вижу.
– А Мерлин еще придет?
– Наверное, нет, – отвечала за нее Джейн. – Мистер Рэнсом не ждет его. Я видела сон, и он был весь в огне… Нет, не горел, а светился разноцветными огоньками. Стоит, как колонна, вокруг него творятся какие‑то ужасы, и лицо его такое, словно он выжат до капли… не знаю, как объяснить. Словно он рассыплется в прах, когда силы его оставят.
– Надо платья выбрать, – напомнила Матушка Димбл.
– Из чего она? – спросила Камилла, щупая и даже нюхая зеленую мантию. Спросить об этом стоило: мантия не была прозрачной, но нежно сияла и струилась сквозь пальцы, как ручей. Айви оживилась и спросила в свой черед:
– Интересно, почем ярд?
– Вот, – удовлетворенно произнесла Матушка Димбл, накинув мантию на Айви и как следует оправив. И тут же воскликнула: – О, Господи!
Все три женщины отступили немного в полном восторге. Айви осталась миловидной и простенькой, но качества эти взмыли ввысь, как взмывают в симфониях такты деревенской песни, мячиком прыгая на волнах вдохновенной музыки. Изумленные женщины видели лукавую фею, резвого эльфа, но это была все та же Айви Мэггс.
– Здесь нет ни одного зеркала! – сокрушенно всплеснула руками Матушка Димбл.
– Он не хочет, чтобы мы смотрели на себя, – сказала Джейн, – он говорил, что здесь хватает зеркал, чтобы видеть других.
– Ну, Камилла, – обернулась к ней Матушка, – с вами все просто. Вот это.
– Это вот? – переспросила Камилла.
– Конечно, – подтвердила Джейн.
– Очень вам пойдет, – поддержала Айви. Ткань была стального цвета, но мягкая, словно пена. «Как русалка, – подумала Джейн, глядя на длинный шлейф. А потом: Как Валькирия».
– Мне кажется, – сказала Матушка, – к этому идет венец.
– Я же не королева!.. – воскликнула Камилла. Но Матушка уже одевала ей венец на голову; и почтение – да, почтение, а не жадность, почтение к алмазам, которое испытывают все женщины, запечатало уста и Айви, и Джейн.
– Что вы так смотрите? – спросила Камилла, перед которой камни лишь блеснули на миг.
– Они настоящие? – осведомилась Айви.
– Откуда они? – спросила Джейн.
– Сокровища королевства, моя дорогая, – ответила Матушка. – Быть может, с той стороны луны или из земли, до потопа. Теперь вы, Джейн.
Джейн не совсем поняла, почему ей выпало именно это платье. Конечно, голубое ей шло, но она бы предпочла что‑нибудь попроще и построже. Но все охали, и она послушалась, тем более, что ей хотелось поскорей выбрать одеяние для Матушки.
– Мне бы поскромнее, – робко попросила м‑сс Димбл. – Я старая, незачем мне позориться.
Камилла носилась метеором мимо пурпурных, алых, золотых, жемчужных, снежно‑белых одежд, перебирая парчу и тафту, атлас и бархат. «Какая красота! – восклицала она. – Но это не для вас… Ах, а это! Смотрите!.. Нет, опять не то. Ничего не найду…»
– Вот оно! – закричала Айви. – Идите сюда! Скорей! – Словно платье могло убежать.
– Ну, конечно! – воскликнула Джейн.
– Да, – подтвердила Камилла.
– Наденьте его, Матушка, – попросила Айви.
Платье было медного цвета, очень закрытое, отороченное по вороту мехом и схваченное медной пряжкой. К нему полагается большой стоячий чепец. Когда Матушка Димбл все это надела, женщины застыли в изумлении, особенно Джейн, хотя она одна могла это предугадать, ибо видела в своем сне такой же самый цвет. Перед ней стояла почтенная профессорша, бездетная седая дама с двойным подбородком, но это была царица, жрица, сивилла, мать матерей. Камилла подала ей странно изогнутый посох. Джейн взяла ее руку и поцеловала.
– А мужчины что оденут? – спросила Айви.
– Им будет нелегко в таких нарядах, – улыбнулась Джейн. – Тем более, что сегодня им придется бегать на кухню. Может, этот день вообще последний, но все равно обедать надо.
– С вином они управятся, – вслух размышляла Айви. – А вот с пудингом – навряд ли… А, вообще‑то, пойду взгляну.
– Лучше не надо, – сказала Джейн. – Сами знаете, какой он, когда ему мешают.
– Очень я его боюсь! – бросила Айви и, кажется, высунула язык, что чрезвычайно шло к ее костюму.
– Обед они не испортят, – сказала Матушка. – И Макфи, и мой муж умеют стряпать… разве что заговорятся. Пойдемте‑ка отдохнем. Как тепло!..
– Красота! – восхитилась Айви.
Вдруг комната задрожала.
– Что это? – воскликнула Джейн.
– Прямо как бомба, – испуганно сказала Айви.
– Смотрите! – поманила их Камилла, сразу кинувшаяся к окну, из которого была видна долина реки. – Нет, это не огонь. И не прожектор. Господи! Опять тряхнуло. Смотрите, за церковью светло, как днем! Что ж это я, четыре часа, день и есть. Только там светлее, чем днем. А жара какая!
– Началось, – констатировала Матушка Димбл.
Тем же утром, примерно тогда, когда Марка подобрал грузовик, порядком утомленный Фиверстоун вылез из машины. Бег ее кончился, когда она свалилась в болото, и Фиверстоун, который всегда был оптимистом, решил, что это еще ничего – все ж, не его машина. Выбравшись на твердую почву, он увидел, что он не один. Высокий человек в долгополой одежде быстро уходил куда‑то. «Эй!» – крикнул Фиверстоун. Тот обернулся, посмотрел на него и пошел дальше. Человек Фиверстоуну не понравился, да он и не угнался бы за таким быстрым ходоком. Дойдя до каких‑то ворот, человек вдруг заржал. И тут же, сразу (Фиверстоун не успел заметить, как это случилось) он уже скакал на коне по ясному, белому полю, к далекому горизонту.
Фиверстоун не знал этих мест, но знал, что надо найти дорогу. Искал он ее дольше, чем думал. Заметно потеплело, всюду были лужи. У первого же холма стояла такая грязь, что он решил с дороги свернуть и пройти полем. Решил он неверно. Два часа кряду он искал дырки в изгородях и пытался выйти на тропинку, которой почему‑то не было. Фиверстоун всегда ненавидел и сельскую местность, и погоду; не любил он и гулять.
Часов в двенадцать он нашел проселок, который вывел его на шоссе. Здесь, к счастью, было большое движение, но и машины, и пешеходы направлялись в одну сторону. Первые три машины не отреагировали на него, четвертая остановилась. «Быстро!» – сказал шофер. «Вы в Эджстоу?» – спросил Фиверстоун. «Ну уж нет, – ответил шофер. – Эджстоу там», – и он показал назад, явно удивляясь и сильно волнуясь.
Пришлось идти пешком. Фиверстоун знал, что из Эджстоу многие уезжают (собственно, он и собирался как следует очистить город), но не думал, что дело зашло так далеко. Час за часом, навстречу ему по талому снегу двигались люди. Конечно, у нас нет свидетельств о том, что происходило в самом городе, зато существует великое множество рассказов тех, кто покинул его в последний момент. Об этом месяцами писали в газетах и говорили в гостях, пока слова «Я выбрался из Эджстоу» не стали присказкой и шуткой. Но факт остается фактом: очень много жителей покинули город вовремя. Один получил телеграмму, что болен отец; другой вдруг решил осмотреть окрестности; у третьего лопнули трубы и затопило квартиру; наконец, многие ссылались на приметы и знамения: кому‑то осел сказал: «Уезжай!», кому‑то кошка. А сотни жителей ушли потому, что у них забрали дом.
Часа в четыре Фиверстоун упал ничком на землю. Тогда тряхнуло в первый раз. Потом было еще несколько толчков, и внизу что‑то шумело. Температура быстро поднималась. Снег исчез, вода была по колено, от нее валил пар. Добравшись до последнего спуска, Фиверстоун города не увидел: внизу стоял туман, в нем сверкали какие‑то вспышки. Снова тряхнуло. Фиверстоун решил вниз не идти, а свернуть к станции и уехать в Лондон. Перед ним замаячили горячая ванна и комната в клубе, где он расскажет обо всем у камина. Да, это вам не шутка пережить и Беллбэри, и Брэктон. Он многое в жизни повидал и верил в свою удачу.
Однако свернуть ему не удалось. Он почему‑то спускался вниз, сама земля несла его. Остановился он ярдах в тридцати и попытался шагнуть вверх. На этот раз он упал, перевернулся через голову, и лавина земли, воды, травы и камней потащила его за собой. Он встал еще раз. Внизу горело фиолетовое пламя. Холм превратился в водопад мокрой земли. Сам он был много ближе к подножью, чем думал. Ему забило грязью нос и рот. Лавина неслась почти отвесно. Наконец, земля поднялась и всем своим весом обрушилась на него…
– Сэр, – спросила Камилла, – что такое Логрис?
Обед уже кончился и все сидели у огня, Рэнсом – справа, Грэйс, в черном с серебром платье, – напротив него. Поленья никто не шевелил, было и так слишком жарко. Парадные одежды светились и сверкали в полумраке.
– Расскажите вы, Димбл, – промолвил Рэнсом. – Теперь я буду мало говорить.
– Вы устали, сэр? – спросила Грэйс. – Вам хуже?
– Нет, Грэйс, – отвечал он. – Я скоро уйду, и все для меня как сон. Все радует меня, даже боль в ноге, и я хочу испить ее до капли. Мне кажется, я чему‑то мешаю, когда говорю.
– А вам нельзя остаться, сэр? – спросила Айви.
– Что мне тут делать, Айви? – вопросом на вопрос ответил он. – Смерть меня не ждет. Рана моя исцелится лишь там, где ее нанесли.
– До сих пор, – заметил Макфи, – смерть, если не ошибаюсь, ждала всех. Я, во всяком случае, исключений не видел.
– Как же вам их видеть? – улыбнулась Грэйс. – Разве вы друг короля Артура или Барбароссы? Разве вы знали Еноха или пророка Илию?
– Вы думаете, – сказала Джейн, – что м‑р Рэнсом… что Пендрагон уйдет туда, где они?
– Он будет с королем Артуром, – кивнул Димбл. – О других мне ничего не известно. Да, некоторые люди не умирали. Мы не знаем, почему. Мы не знаем толком, как это было. В мире есть много мест… я хочу сказать, в этом мире есть много мест, в которых организм живет вечно. Зато мы знаем, где король Артур.
– И где же он? – спросила Камилла.
– На третьем небе, на Переландре, на острове Авалон, который потомки Тора и Тинидриль найдут через сотню столетий.
– Один он? – Димбл посмотрел на Рэнсома, и тот покачал головой.
– Значит, с ним будет и наш Пендрагон? – спросила Камилла.
Димбл помолчал, потом заговорил снова:
– Началось это, когда мы открыли, что почти все легенды об Артуре исторически достоверны. Однажды, в IV веке существовало явно то, что всегда существует тайно. Мы называем это Логрским королевством; можно назвать иначе. Итак, когда мы это открыли, мы – не сразу, постепенно – увидели по‑новому историю Англии, и поняли, что она – двойная.
– В каком смысле? – удивилась Камилла.
– Понимаете, есть Британия, а в ней, внутри – Логрис. Рядом с Артуром – Мордред; рядом с Мильтоном – Кромвель; народ поэтов – и народ торговцев; страна сэра Филиппа Сиднея – Сесила Родса. Это не лицемерие, это – борьба Британии и Логриса.
Он отхлебнул вина и продолжал:
– Много позже, вернувшись с Переландры, Рэнсом случайно оказался в доме очень старого, умирающего человека. Это было в Камберлэнде. Имя его вам ничего не скажет, но он был Пендрагон, преемник короля Артура. Тогда мы узнали правду. Логрис не исчез, он всегда живет в сердце Англии, и Пендрагоны сменяют друг друга. Старик был семьдесят восьмым Пендрагоном, считая от Артура. Он благословил Рэнсома. Завтра мы узнаем, кто будет восьмидесятым. Одни Пендрагоны остались в истории, но по иным причинам, о других не слышал никто. Но всегда, в каждом веке, они и очень немного их подданных были рукою, которая двигала перчатку. Лишь из‑за них не впала страна в сон, подобный сну пьяного, и не рухнула в пропасть, куда ее толкает Британия.
– Ваш вариант английской истории, – заметил Макфи, – не подтвержден документально.
– Документов немало, – ответил Димбл и улыбнулся, – но вы не знаете языка, на котором они написаны. Когда история этих месяцев будет изложена на нашем языке, там не будет ни слова ни о нас с вами, ни о Мерлине с Пендрагоном, ни о планетах. Однако именно теперь произошел самый опасный мятеж Британии против Логриса.
– И правильно, что не напишут о нас, – сказал Макфи. – Что мы здесь делали? Кормили свиней и разводили неплохие овощи.
– Вы делали то, что от вас требовалось, – сказал Рэнсом. – Вы повиновались и ждали. Так было, и так будет. Я где‑то читал, что алтарь воздвигают в одном месте, чтобы огонь с небес сошел в другом. А черту подводить рано. Британия проиграла битву, но не погибла.
– Значит, – сделала вывод Матушка Димбл, – Англия так и качается между Британией и Логрисом?
– Разве ты до сих пор этого не замечала? – удивился ее муж. – В этом самая суть нашей страны. Того, что нам заповедано, мы сделать не можем; но не можем и забыть. Посуди сама: как неуклюже все лучшее в нас, какая в нем жалобная, смешная незавершенность! Прав был Сэм Уэллер, когда назвал Пиквика ангелом в гетрах. Хороший англичанин и выше, и нелепей, чем надо. А все у нас в стране или лучше или хуже, чем…
– Димбл! – остановил его Рэнсом. Димбл остановился и посмотрел на него. Джейн даже показалось, что он покраснел.
– Вы правы, сэр, – сказал он и снова улыбнулся. – Забыл! Да, не мы одни такие. Каждый народ – двойной. Англия – не избранница, избранных народов нет, это чепуха. Мы говорим о Логрисе, потому что он у нас, и мы о нем знаем.
– Можно попросту сказать, – возразил Макфи, – что везде есть и добро, и зло.
– Нет, – не согласился Димбл, – нельзя. Понимаете, Макфи, если думать о добре вообще, придешь к абстракции, к какому‑то эта??ону для всех стран. Конечно, общие правила есть, и надо соблюдать их. Но это – лишь грамматика добра, а не живой язык. Нет на свете двух одинаковых травинок, тем более – двух одинаковых святых, двух ангелов, двух народов. Весь труд исцеления Земли зависит от того, раздуем ли мы искру, воплотим ли призрак, едва мерцающий в каждом народе. Искры эти, призраки эти – разные. Когда Логрис поистине победит Британию, когда дивная ясность разума воцарится во Франции – что ж, тогда придет весна. Пока же наш удел – Логрис. Мы сразили сейчас Британию, но никто не знает, долго ли это продлится. Эджстоу не восстанет из праха после этой ночи. Но будут другие Эджстоу.
– Я как раз хотела спросить, – подала голос Матушка. – Может быть, Мерлин и планеты немного… перестарались? Неужели весь город заслужил гибель?
– Кого вы жалеете? – сказал Макфи. – Городской совет, который продал жен и детей ради института?
– Я мало знаю об этих людях, – ответила Матушка. – Но вот университет… даже Брэктон. Конечно, там было ужасно, мы это понимаем, но разве они хотели зла, когда строили свои мелкие козни? Скорее, это было просто глупо…
– Да, – согласился Макфи, – они развлекались, котята играли в тигров. Но был и настоящий тигр, и они его принимали. Что же сетовать, если, целясь в него, охотник задел и их?
– А другие колледжи? Нортумберлэнд?
– Жаль таких, как Черчвуд, – вздохнул Деннистоун, – он был прекрасный человек. Студентам он доказывал, что этики не существует, а сам прошел бы десять миль, чтобы отдать два пенса. И все‑таки… была ли хоть одна теория, применявшаяся в Беллбэри, которую не проповедовали бы в Эджстоу? Конечно, ученые не думали, что кто‑нибудь захочет так жить. Но именно их дети выросли, изменились до неузнаваемости и обратились против них.
– Боюсь, моя дорогая, что это правда, – кивнул Димбл.
– Какая чушь, Сесил! – возмутилась Матушка.
– Вы забыли, – сказала Грэйс, – что все, кроме очень, очень плохих, покинули город. Вообще же Артур прав. Забывший о Логрисе сползает в Британию.
Больше она ничего не сказала: кто‑то сопел и ворочался за дверью.
– Откройте дверь, Артур, – сказал Рэнсом.
Через несколько секунд все вскочили, радостно ахая, ибо в комнату вошел м‑р Бультитьюд.
– Ой, в жизни бы!.. – начала Айви и сама себя перебила: – Бедный ты, бедный! Весь в снегу. Пойдем, покушаем. Где ж ты пропадал? Смотри, как увозился!
Поезд дернуло в третий раз, и он остановился. Свет в вагонах погас.
– Черт знает что! – сказал голос во тьме. Трое пассажиров в купе первого класса легко определили, что он принадлежит их холенному спутнику в коричневом костюме, который всю дорогу давал им советы и рассказывал вещи, неведомые простым смертным.
– Как кто, – сказал тот же голос, – а я должен быть в университете.
Коричневый пассажир встал, открыл окно и выглянул во тьму. Другой пассажир сказал, что ему холодно. Тогда он сел на место.
– Стоим уже десять минут, – проворчал он.
– Простите, двенадцать, – поправил его второй пассажир.
Поезд не трогался. Стало слышно, как ругаются в соседнем купе.
– Что за черт?! – возмутился третий пассажир.
– Откройте дверь!
– Мы что, на кого‑то налетели?
– Все в порядке, – сказал первый. – Просто меняют паровоз. Работать не умеют. Набрали невесть кого…
– Эй! – крикнул кто‑то. – Едем!
Поезд медленно двинулся с места.
– Сразу скорость не наберешь, – заметил второй.
– Наверстаем, – успокоил его первый.
– Свет бы зажгли, – сказала женщина.
– Что‑то не наверстываем, – пробурчал второй.
– Да мы опять остановились!
Снова тряхнуло. С минуту все звенело и звякало.
– Безобразие, – воскликнул первый пассажир, открывая окно. На сей раз ему повезло больше – внизу кто‑то шел с фонарем.
– Эй! Носильщик! Кто вы там! – заорал пассажир.
– Все в порядке, все в порядке, – сказал человек с фонарем, проходя мимо.
– Очень дует, – пожаловался второй.
– Впереди свет, – сказал первый. – То ли пожар, то ли прожектор.
– Какое мне дело! – воскликнул второй. – Ох ты, Господи!
Тряхнуло снова. Вдалеке раздался грохот. Поезд медленно тронулся, словно прокладывая себе путь.
– Я этого так не оставлю! – все возмущался первый. – Какое безобразие!
Через полчаса показалась освещенная платформа.
– Говорит станция Стэрк, – раздался громкий голос. – Передаем важное сообщение. В результате легких подземных толчков платформа Эджстоу выведена из строя. Пассажиры, направляющиеся в Эджстоу, могут выйти здесь.
Первый пассажир вышел. Он всюду был знаком с начальниками, и через десять минут уже слышал более подробный рассказ о постигшей город беде.
– Сами толком не знаем, м‑р Кэрри, – говорил начальник станции. – Целый час от них ничего нет. Такого землетрясения Англия еще не знала. Нет, сэр, не думаю, что Брэктон уцелел. Эту часть города как смыло. Там, говорят, и началось. Слава Богу, я на той неделе забрал к себе отца!
Кэрри всю жизнь говорил, что этот день был для него поворотным пунктом. Он не считал себя религиозным человеком, но тут подумал: «Это – Провидение!» И впрямь, что еще скажешь? Он чуть не сел в предыдущий поезд. Да, поневоле задумаешься!.. Колледжа нет! Придется его строить. Придется набирать весь (или почти весь) штат. Ректор тоже будет новый. Конечно, об обычных выборах не может быть и речи. Вероятно, попечитель колледжа – это как раз лорд‑канцлер! – назначит ректора, а уж потом они вместе подберут первых сотрудников. Чем больше Кэрри об этом думал, тем яснее видел, что будущее Брэктона зависит от единственного уцелевшего его члена, как бы нового основателя. Нет, Провидение, иначе не скажешь. Он увидел свой портрет в новом актовом зале, свой бюст в новом дворе, длинную главу о себе в истории колледжа. Пока он это видел, он, без капли лицемерия, выражал всем своим видом глубочайшую скорбь. Плечи его чуть согнулись, глаза обрели печальную строгость, лоб хмурился. Начальник, глядевший на него, часто говорил впоследствии: «Видно было, что худо человеку. Но держался он здорово».
– Когда поезд на Лондон? – спросил Кэрри. – Я должен там быть как можно раньше.
Как мы помним, Айви Мэггс пошла покормить Бультитьюда. Поэтому все очень удивились, когда она почти сразу вернулась, крича:
– Ой, идите скорей! Там медведь!
– Медведь? – переспросил Рэнсом. – Ну, конечно…
– Не наш, сэр, чужой!
– Вот как?!
– Он доел гуся и окорок, и пирог, а сейчас лежит на столе и ест все подряд. Ой, идите туда, пожалуйста!
– А что делает м‑р Бультитьюд? – спросил Рэнсом.
– Бог знает что, сэр! В жизни такого не видела. Вошел, ногу задрал, будто умеет плясать… потом прыгнул на буфет, прямо в пудинг, головой угодил в связку лука, теперь у него вроде бус. А главное, ко мне не идет, хоть ты плачь.
– Да, на м‑ра Бультитьюда не похоже. А вы не думаете, что наш новый гость – медведица?
– Ой, сэр, что вы! – закричала Айви.
– Нет, Айви, так оно и есть. Это будущая м‑сс Бультитьюд.
– Она прямо сейчас станет м‑сс Бультитьюд, если мы не вмешаемся, – сказал Макфи и встал со стула.
– Ой, что же нам делать? – причитала Айви.
– М‑р Бультитьюд прекрасно справится сам, – сказал Рэнсом. – Сейчас они ужинают. Не будем вмешиваться в их дела.
– Конечно, конечно, – согласился Макфи, – но не на нашей же кухне!
– Айви, – сказал Рэнсом. – Проявите твердость. Идите к ним и скажите невесте, что я хочу ее видеть. Вы не боитесь?
– Это я, сэр? Я ей покажу, кто у нас главный!
– А что с нашим Бароном? – спросил Димбл.
– Вылететь хочет, – сказал Деннистоун, – открыть ему окно?
– Окна вообще можно открыть, – заметил Рэнсом. – Совсем тепло стало.
Когда они открыли окно, барон Корво немедленно исчез.
– Еще один жених, – улыбнулась Матушка. – Как хорошо в саду!
– Слушайте! – воскликнул Деннистоун. – Наша кобыла заржала.
– А вот еще! – добавила Джейн.
– Это жеребец, – определила Камилла.
– Знаете ли, – проворчал Макфи, – это становится непристойным.
– Наоборот, – улыбнулся Рэнсом. – Это именно пристойно – и, кроме того, достойно и уместно. Сама Венера – в Сент‑Энн.
– Она очень близко к Земле, – кивнул Димбл.
– Дело свое боги сделали, – сказал Рэнсом, – а она еще ждет меня. Идите, ложитесь, Маргарет, вы устали.
– Я и правда пойду, – вздохнула Матушка. – Не могу…
– Утешьте Маргарет, Сесил, – сказал Рэнсом. – Нет, идите. Я не умираю. А провожать – глупо. Не порадуешься как следует и не поплачешь.
– Вы хотите, чтобы мы ушли, сэр? – переспросил Димбл.
– Идите, мои дорогие друзья.
Он положил руки на их головы. Сесил обнял жену, и они ушли.
– Вот она, сэр, – сказала Айви. Лицо у нее пылало. За ней топала медведица, измазанная вареньем и кремом. – Ой, сэр!
– В чем дело, Айви?
– Томас мой пришел. Мой муж. Если можно, я…
– Вы его покормили?
– Да они все съели, сэр…
– Что же ему осталось, Айви?
– Я ему дала пирога и пикулей, он их очень любит, и сыру был кусочек, и пива, и еще я чайник поставила. Он очень радуется, сэр, а сюда не пойдет, он у меня тихий.
Чужая медведица стояла, не двигаясь, и глядела на Рэнсома. Он положил руку на ее плоскую голову.
– Ты хороший зверь, – сказал он. – Иди к своему мужу. Да вот и он…
…И впрямь, дверь открылась, а за ней возникла взволнованная и немного смущенная морда.
– Бери ее, Бультитьюд. Идите оба на воздух. Джейн, откройте им окна. Погода, как летом.
Джейн открыла большое, до пола, окно, и два медведя вышли в теплую и влажную полутьму.
– Что это птицы, с ума сошли? – спросил Макфи. – С чего они распелись в четверть двенадцатого?
– Нет, – ответил Рэнсом, – они в своем уме. Айви, идите к Тому. Матушка Димбл приготовила для вас комнату у самой площадки.
– Сэр!.. – начала Айви и остановилась. Рэнсом положил руку ей на голову.
– Иди, – сказал он. – Том и не разглядел твоего платья. Поцелуй его от меня, – и он поцеловал ее. – Нет, не от меня, от Другого. Не плачь. Ты хорошая женщина. Иди, исцели этого мужчину.
– Что это за звуки? – спросил Макфи. – Надеюсь, это не свиньи вырвались?
– По‑моему, это ежи, – сказала Грэйс.
– А вот еще какой‑то шорох, – прислушалась Джейн.
– Тише! – поднял вверх палец Рэнсом и улыбнулся. – Это мои друзья.
– Я полагаю, – сказал Макфи, извлекая табакерку из‑под серых одежд, немного похожих на монашеские, – я полагаю, у нас в усадьбе нет жирафов, гиппопотамов и слонов. Ох, что это?
Серая гибкая труба возникла над его плечом и взяла со стола гроздь бананов.
– Откуда они все? – ошарашенно выдавил Макфи.
– Из Беллбэри, – ответил Рэнсом. – Они вышли на свободу. Переландра слишком близко к Земле. Человек теперь не один. Сейчас – так, как должно быть: над нами – ангелы, наши старшие братья, под нами – звери, наши слуги, шуты и друзья.
Макфи хотел что‑то сказал, но за окном раздался грохот.
– Слоны! – воскликнула Джейн. – Два слона! Они растопчут клумбы и грядки!
– Если вы не возражаете, д‑р Рэнсом, – сказал Макфи, – я задерну шторы. Вы, по‑видимому, забыли, что здесь дамы.
– Нет, – произнесла Грэйс так же громко, как и он. – Ничего дурного мы не увидим. Как светло! Почти как днем. Над садом – купол света. Глядите: слоны пляшут. Ходят кругами, поднимают ноги… смотрите, и хобот поднимают! Словно великаны танцуют менуэт! Слоны не похожи на других животных, они – как добрые духи.
– Они удаляются, – отметила Камилла.
– Они целомудренны, как люди, – сказал Рэнсом. – Это не просто звери.
– Я лучше пойду, – пробормотал Макфи. – Пускай хоть один человек сохранит голову на плечах. Доброй ночи.
– Прощайте, Макфи, – сказал Рэнсом.
– Нет, нет, – проговорил Макфи, отступая, но все же протягивая руку, – мне благословений не требуется. Что мы с вами перевидали… ладно, не стоит. При всех ваших недостатках, д‑р Рэнсом – кому их знать, как не мне! – на свете нет человека лучше вас. Вы… мы с вами… вот, дамы плачут. Не помню, что я хотел сказать. Сейчас уйду. Незачем тянуть. Благослови вас Бог, доктор Рэнсом. Дамы, доброй ночи.
– Откройте все окна, – распорядился Рэнсом. – Мой корабль входит в сферу Земли.
– Становится все светлее, – сказал Деннистоун.
– Можно остаться с вами до конца? – спросила Джейн.
– Нет, – покачал головой Рэнсом.
– Почему, сэр?
– Вас ждут.
– Меня?
– Да, вас. Муж ждет вас в пави??ьоне. Вы приготовили брачный покой для самой себя.
– Надо идти сейчас?
– Если вы спрашиваете меня, то да, надо.
– Тогда я пойду, сэр. Только… разве я медведица или еж?
– Ты больше их, но не меньше. Иди в послушании, и обретешь любовь. Снов не будет. Будут дети.
Задолго до усадьбы Марк увидел, что с ним или со всем прочим что‑то творится. Над Эджстоу пылало зарево, земля подрагивала. У подножья холма вдруг стало очень тепло, и вниз поползли полосы талого снега. Все скрыл туман, а там, откуда зарева не было видно, Марк различил свечение на вершине холма.
Ему все время казалось, что навстречу бегут какие‑то существа – должно быть, звери. Возможно, то был сон; возможно, конец света; возможно, сам он уже умер. Однако он чувствовал себя на удивление хорошо. Правда, душа его была не совсем спокойна.
Душа его не была спокойна, ибо он знал, что сейчас увидит Джейн, и случится то, что должно было случиться много раньше. Лабораторный взгляд на любовь, лишивший Джейн супружеского смирения, лишил и его в свое время смирения влюбленности. Если ему и казалось иногда, что его избранница «так хороша, что смертный человек не смеет прикоснуться к ней», он отгонял такие мысли. Они казались ему и нежизненными, и отсталыми. Попытался он отогнать их и сейчас. В конце концов, они ведь женаты! Они современные, разумные люди. Это же так естественно, так просто…
Но многие минуты их недолгого брака вспомнились ему. Он часто думал о том, что называл «ее штучками». Теперь, наконец, он подумал о себе, и мысль эта не уходила. Безжалостно, все четче, взору его открывался наглый самец с грубыми руками, топочущий, гогочущий, жующий, а главное – врывающийся туда, куда не смели вступить великие рыцари и поэты. Как он посмел? Она бела, словно снег, она нежна и величава, она священна. Нет, как он посмел?! И не знал, что совершает святотатство, когда был с ней таким небрежным, таким глупым, таким грубым! Сами мысли, мелькавшие иногда на ее лице, должны были уберечь ее от него. Она и хотела огородиться ими, и не ему было врываться за ограду. Нет, она сама впустила его, не зная, что делает, а он, как последний подлец, воспользовался. Он вел себя так, словно заповедный сад по праву принадлежит ему.
Все, что могло стать радостью, стало печалью, ибо он поздно понял. Он увидел изгородь, сорвав розу, нет, хуже, порвав ее грязными руками. Как он посмел? Кто его простит? Теперь он знает, каким его видят равные ей. Ему стало жарко. Он стоял один в тумане.
Слово «дама» было для него всегда смешным и даже насмешливым. Он вообще слишком много смеялся. Что ж, теперь он будет служить ей. Он ее отпустит. Ему было стыдно даже подумать иначе. Когда прекрасные дамы в сверкающем зале беседуют с милой важностью или нежной веселостью о том, чего им, мужчинам, знать не дано, как не радоваться им, если их оставит грубая тварь, которой место в стойле.
Что делать ему с ними, если даже его восхищение может оскорбить их? Он считал ее холодной, а она была терпеливой. От этой мысли ему стало больно. Теперь он любил Джейн, но поправить уже ничего не мог.
Мерцающий свет стал ярче. Взглянув наверх, он увидел женщину у двери – не Джейн, совсем другую, очень высокую, выше, чем может быть человек. На ней пламенело медно‑красное платье. Лицо ее было загадочным, слишком спокойным и немыслимо прекрасным. Она открыла дверь. Он не посмел ослушаться («Да, – подумал он, – я умер») и вошел в невысокий дом. Там невыразимо сладостно пахло, пылал огонь, у широкого ложа стояли вино и угощенье.
А Джейн вышла из дому в свет и, под пение птиц, по мокрой траве, мимо качелей, теплицы и амбаров, спустилась лестницей смирения к маленькому павильону. Сперва она думала о Рэнсоме, потом о Боге, потом – о браке и ступала так осторожно, словно совершала обряд. Думала она и о детях, и о боли, и о смерти. На полпути она стала думать о Марке и о его страданиях. Подойдя к павильону, она удивилась, что дверь заперта, а окна – темны. Когда она стояла, держась за косяк, новая мысль посетила ее, – а вдруг она Марку не нужна? Вдруг он к ней не пришел? Никто не мог бы сказать, что она испытала – облегчение или обиду, но дверь она не открыла. Тут она заметила, что окно распахнуто. В комнате, на стуле, грудой лежала одежда, и рукав рубашки, его рубашки, перекинулся через подоконник. Он же отсыреет… Нет, что за человек! Самое время ей войти!